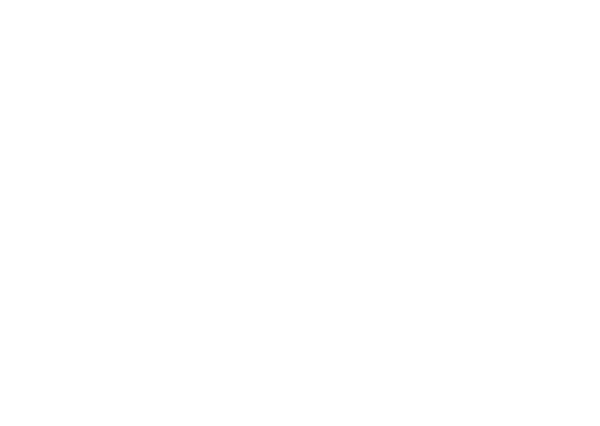икэбана
Личманюк Наталья Николаевна
Размышления об истории развития икебаны во Владивостоке
дизайнер, член СД России, куратор выставочных проектов, художник икебаны, председатель ПКО СД России

12+
The development of ikebana in Vladivostok: the reflections on its history
Designer, member of the Russia Designers Association, curator of exhibition projects, ikebana artist, Chairman of the Primorsky Regional Branch of the RDA
Natalia N. Lichmanyuk

Каменная черепаха, XII в., парк ДОСА, г. Уссурийск (©фото автора)
14 мая 2025
This year marks the 20th Anniversary of the 2005 Ikebana Festival in Vladivostok. Of course, there is a reason to remember the time when the story of ikebana in Primorye was just beginning. This story has become part of my professional experience, so the article inadvertently touches on events inseparable from the author’s life, in order to show on what peculiar regional soil and in what context the first "flowers" of exotic Japanese ikebana appeared in Vladivostok. The avant-garde processes and phenomena of the early 20th century in Japanese painting, literature, prose and poetry, as well as in avant-garde ikebana, must be considered in the context of the history of the development of not only Japanese art, but also the history of the development of art of this period in Europe and in Russia, especially in the Russian Far East.
publication online: may 14, 2025
Посвящается учителю Уэно Косю, который открыл нам путь в мир искусства икебаны и поддерживал на этом пути долгие годы.
Уссурийская древняя каменная черепаха
Цветы были рядом. Всегда. В ста метрах от дома – Парк, тогда, казалось, огромный – источник ярких впечатлений, «околонаучных» ботанических исследований и сезонных «полевых» открытий. Все это было частью каждодневной школьной жизни, грандиозным полотном для меняющихся настроений природы. Молчаливым «соучастником» и «подругой дней моих...» в Парке долгие годы была древняя каменная черепаха, найденная еще в 1868 году – уникальный памятник археологии XII века в составе комплекса захоронений князя чжурчжэней.
Мой интерес к Японии проявился со школьных лет. Старший брат закончил вуз по специальности «судоводитель» и бывал в рейсах в Японии, Корее, Китае, Вьетнаме, делился своими впечатлениями, привозил красочные календари с видами традиционных садов и храмов, японками в кимоно и с изысканной икебаной. Попадали в руки и открытки с видами архитектуры Японии – современной, стремительной, сочетающей, казалось, несочетаемое: брутальность бетона, легкость вантовых конструкций и хрупкость традиционных деревянных построек в окружении потрясающих садов.
Японский архитектор Кензо Танге и «метаболизм»
Увидев редкое издание на русском языке об известном японском архитекторе Кензо Танге и купив эту книгу, несла ее домой, как величайшее сокровище. Студенткой читала книгу «от корки до корки», изучала фотографии и чертежи проектов, пытаясь постичь философию творчества этого большого мастера, отмеченного множеством престижных премий в профессиональной среде, получившего мировую известность благодаря архитектурным проектам для Олимпийских игр 1964 г. в Токио и Экспо-1970 в Осака.
Поражали в его творчестве чистота и лаконичность, структурность и урбанизм, символика и эмоциональность, подчеркивающие не только высокий уровень японской архитектуры, но и самобытность ее национального характера. То, что предыдущие поколения видели в зданиях Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Вальтера Гроппиуса, все творческие достижения архитекторов Алвара Аалто, Оскара Нимейера, Ээро Сааринена, воплотилось в архитектуре Кензо Танге. Ему, автору многочисленных публикаций, удалось раскрыть новые связи между традиционной японской архитектурой и современностью. Это оказало мощное влияние на несколько поколений его студентов и последователей, на деятельность конгрессов по современной архитектуре (CIAM).
«Традиция лишь катализатор, который активизирует химическую реакцию»
Итальянский архитектор Э. Н. Роджерс на конгрессе CIAM высказал мнение, что архитектура должна вернуться к началу своего пути, для него это – продолжение традиции. В качестве примеров такой «традиционности» он привел созданные К. Танге здания муниципалитетов Токио и префектуры Кагавы в г. Такамацу. Танге ему возразил: «Я не думаю, что регионализм – выражение местной традиции. Многие... неправильно считают, что употребление особых форм, присущих одному району, может привести к созданию оригинального произведения. Напротив, ... традиция ничего не гарантирует, ничего не создает. В наши дни творчество выражено союзом техники и гуманизма. Традиция лишь катализатор, который активизирует химическую реакцию, а сама растворяется в ней. Традиция может участвовать в творчестве, но сама по себе не является созидательной силой». «В действительности же он стремится продолжать традицию, отталкиваясь от произведений прошлого, которые тщательно изучил, постигнув их гармонию» [1].
Центр искусств Согэцу в Токио построен архитектором Кензо Танге по замыслу Софу Тэсигахара, главы школы икебаны Согэцу. Несмотря на впечатление монументальности архитектуры и брутальности бетона центр искусств невелик и в сочетании с лаконичностью сада скульптуры, открытого театра на крыше, сохраняет «человеческий масштаб» в традициях японских садов и икебаны школы Согэцу. Танге был женат на Касуми Тэсигахара, ставшей второй иэмото школы Согэцу после ухода из жизни ее отца.
Единство искусственной и природной среды, открытость к дальнейшему развитию и трансформациям, присущие философии архитектуры синтоистских храмовых комплексов, стали важнейшей частью философии Танге как архитектора. Эта философия нашла отражение в формировании сугубо японского направления в архитектуре и градостроительстве – «метаболизма». «Идеи метаболизма оказали влияние на все последующие поколения японских архитекторов, которые, возможно, и не продолжали их впрямую, но всегда уделяли повышенное внимание вопросам взаимодействия проектируемых объектов с окружающей средой (природной и антропогенной) и их гибкости, адаптации к возможным изменениям как окружения, так и собственной программы» развития объектов (по аналогии с развитием живого организма) [2].
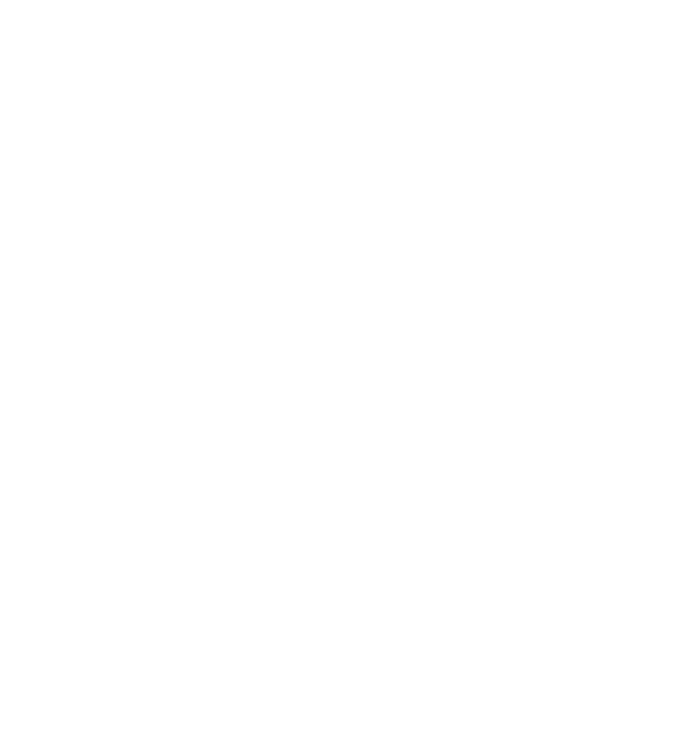
Рис. 1. Восточные львы ши-цза X века у входа в здание бывшего корпуса Восточного института (1899 г.) во Владивостоке (©фото автора)
Львы у здания Политехнического Института
Корпус бывшего Восточного института, открытого во Владивостоке в 1899 году, и сейчас охраняют два восточных льва ши-цза X века. Учеба на архитектора здесь погружала в мир идей и проектной культуры, давала базу для будущей профессии проектировщика, открыла творческий метод, актуальный и сегодня. Работа с тушью, бумагой, макетирование, коллаж, – все оттуда, из студенческих времен и увлечений. Курс по композиции – это встреча с увлеченными педагогами – В. К. Моором и В. Р. Усовым: энтузиазм педагогов, открывающих студентам путь к эксперименту, помноженный на профессиональную компетентность и увлеченность исследователей – задали профессиональную планку с тех самых пор. Многие интересные идеи и педагогические эксперименты для своей практики молодые преподаватели подхватывали из ходивших в распечатках книг – Виктора Папанека (актуальна до сих пор!) «Дизайн для реального мира» (1971) и «Искусство цвета» Иоханнеса Иттена из курса Баухауза.
Форкурсы Баухауза и ВХУТЕМАСа
В программе Баухауза все студенты, независимо от того, готовились ли они стать архитекторами, художниками или дизайнерами, должны были начать свое обучение с дисциплин форкурса [3]. Лабораторные исследования, практическая творческая деятельность, пропедевтические экспериментальные курсы Баухауза легли в основу образования архитекторов, дизайнеров и художников ХХ века практически во всем мире (в том числе и в Японии), став, по сути, универсальной базой знаний, общей для людей проектной культуры [4].
Русская школа дизайна – ВХУТЕМАС с 1920-х годов обучала на своем форкурсе, где преподавали известные авангардисты А. Родченко, А. Веснин, Л. Попова, В. Степанова и др. «Обучение проектированию нового осуществлялось и новыми педагогическими средствами. Среди них: выделение базовых принципов работы с основными элементами композиции, фундаментальными пластическими категориями – Графика, Цвет, Объем, Пространство; освоение опыта новейших художественных течений; учет особенностей восприятия форм и пространства, психоаналитический метод Н. А. Ладовского; функциональный анализ; коллективные методы обучения и творчества; макетирование как рабочий метод проектирования; синтез профессий, единое художественное пространство, единая художественная среда» [5]. Можно сказать, что ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН был проектом профессий XX и XXI веков. Именно архитекторы и дизайнеры стали хранителями памяти этого уникального вуза [6].
Летняя студенческая практика по Золотому кольцу, а также в Москве, Ленинграде, Таллине – дали возможность «сменить дальневосточную оптику» и увидеть «живьем» архитектуру XII–XIII веков (ровесницу уссурийской черепахе), ощутить энергетику древних стен, посетить известные парки и музеи, понять важность «насмотренности» для профессионала.
«Дальневосточная оптика»
Владивосток начал строиться в 1860-х годах – это тонкий российский культурный слой на границе азиатского и русского мира – фронтир (пограничье). Поначалу строили по проектам военных инженеров, затем – и гражданских инженеров, получивших образование в европейской части России в ИГИ (Институт гражданских инженеров императора Николая I в Санкт-Петербурге). Нередки были случаи приглашения иностранных архитекторов для проектирования зданий по заказам успешных предпринимателей. Благодаря развитию и процветанию предпринимательской деятельности, наличию заработанного капитала дома строились добротно, роскошно, модно; применялись современные направления в архитектуре и привозились качественные европейские строительные и отделочные материалы. Новизна, изысканность, комфорт и роскошь возводимых зданий была призвана убедить партнеров в прочности финансового положения торговых фирм [7].
В истории Владивостокской топонимики особую роль сыграл исследователь Приморского края, гидрограф, Василий Матвеевич Бабкин (1813–1876), сам ходивший когда-то на бриге «Парис». Именно он дал в 1862 году названия пяти бухтам Владивостока в память о судах, участвовавших в экспедициях Балтийского флота. Построенные на верфях Санкт-Петербурга и получившие имена в честь великих героев гомеровского эпоса, эти суда явились своеобразным мостом, соединившим Запад и Восток Российской империи. Каким бы своеобразным ни было вхождение в эллинскую древность, главный результат – то, что сейчас имена эллинских героев – Париса, Патрокла, Аякса, Улисса и Диомида формируют уже новую реальность «Владивостокской античности» [8].
Корпус бывшего Восточного института, открытого во Владивостоке в 1899 году, и сейчас охраняют два восточных льва ши-цза X века. Учеба на архитектора здесь погружала в мир идей и проектной культуры, давала базу для будущей профессии проектировщика, открыла творческий метод, актуальный и сегодня. Работа с тушью, бумагой, макетирование, коллаж, – все оттуда, из студенческих времен и увлечений. Курс по композиции – это встреча с увлеченными педагогами – В. К. Моором и В. Р. Усовым: энтузиазм педагогов, открывающих студентам путь к эксперименту, помноженный на профессиональную компетентность и увлеченность исследователей – задали профессиональную планку с тех самых пор. Многие интересные идеи и педагогические эксперименты для своей практики молодые преподаватели подхватывали из ходивших в распечатках книг – Виктора Папанека (актуальна до сих пор!) «Дизайн для реального мира» (1971) и «Искусство цвета» Иоханнеса Иттена из курса Баухауза.
Форкурсы Баухауза и ВХУТЕМАСа
В программе Баухауза все студенты, независимо от того, готовились ли они стать архитекторами, художниками или дизайнерами, должны были начать свое обучение с дисциплин форкурса [3]. Лабораторные исследования, практическая творческая деятельность, пропедевтические экспериментальные курсы Баухауза легли в основу образования архитекторов, дизайнеров и художников ХХ века практически во всем мире (в том числе и в Японии), став, по сути, универсальной базой знаний, общей для людей проектной культуры [4].
Русская школа дизайна – ВХУТЕМАС с 1920-х годов обучала на своем форкурсе, где преподавали известные авангардисты А. Родченко, А. Веснин, Л. Попова, В. Степанова и др. «Обучение проектированию нового осуществлялось и новыми педагогическими средствами. Среди них: выделение базовых принципов работы с основными элементами композиции, фундаментальными пластическими категориями – Графика, Цвет, Объем, Пространство; освоение опыта новейших художественных течений; учет особенностей восприятия форм и пространства, психоаналитический метод Н. А. Ладовского; функциональный анализ; коллективные методы обучения и творчества; макетирование как рабочий метод проектирования; синтез профессий, единое художественное пространство, единая художественная среда» [5]. Можно сказать, что ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН был проектом профессий XX и XXI веков. Именно архитекторы и дизайнеры стали хранителями памяти этого уникального вуза [6].
Летняя студенческая практика по Золотому кольцу, а также в Москве, Ленинграде, Таллине – дали возможность «сменить дальневосточную оптику» и увидеть «живьем» архитектуру XII–XIII веков (ровесницу уссурийской черепахе), ощутить энергетику древних стен, посетить известные парки и музеи, понять важность «насмотренности» для профессионала.
«Дальневосточная оптика»
Владивосток начал строиться в 1860-х годах – это тонкий российский культурный слой на границе азиатского и русского мира – фронтир (пограничье). Поначалу строили по проектам военных инженеров, затем – и гражданских инженеров, получивших образование в европейской части России в ИГИ (Институт гражданских инженеров императора Николая I в Санкт-Петербурге). Нередки были случаи приглашения иностранных архитекторов для проектирования зданий по заказам успешных предпринимателей. Благодаря развитию и процветанию предпринимательской деятельности, наличию заработанного капитала дома строились добротно, роскошно, модно; применялись современные направления в архитектуре и привозились качественные европейские строительные и отделочные материалы. Новизна, изысканность, комфорт и роскошь возводимых зданий была призвана убедить партнеров в прочности финансового положения торговых фирм [7].
В истории Владивостокской топонимики особую роль сыграл исследователь Приморского края, гидрограф, Василий Матвеевич Бабкин (1813–1876), сам ходивший когда-то на бриге «Парис». Именно он дал в 1862 году названия пяти бухтам Владивостока в память о судах, участвовавших в экспедициях Балтийского флота. Построенные на верфях Санкт-Петербурга и получившие имена в честь великих героев гомеровского эпоса, эти суда явились своеобразным мостом, соединившим Запад и Восток Российской империи. Каким бы своеобразным ни было вхождение в эллинскую древность, главный результат – то, что сейчас имена эллинских героев – Париса, Патрокла, Аякса, Улисса и Диомида формируют уже новую реальность «Владивостокской античности» [8].
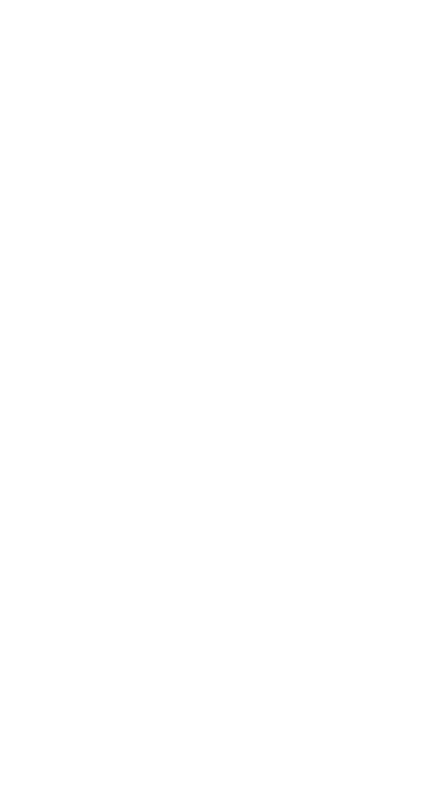
Рис. 2. ДВПИ, специальность «архитектура» — встречи с античностью в кабинете рисунка, 1976 г. (фото из личного архива автора)
«Освоение Дальнего Востока шло в эпоху «эклектики» – единый стиль, маркирующий «имперское», был разрушен, и новая колониальная архитектура конструировалась, что называется, на ходу» [9], неизбежно смешивая «европейское» и «восточное»: извивы модерна в Пушкинском театре, грифоны на фасаде Японского консульства, маскароны – рельефные каменные лики, одухотворяющие городскую среду и говорящие нам об ушедшей безвозвратно эпохе. «На фоне старых российских городов Владивосток выглядел необычно со своей восточной экзотикой, привнесенной китайцами, японцами и корейцами. Город, начавший застраиваться каменными домами, естественно стал отражением тех городов, которые на период его становления имели с ним устойчивые морские связи и стали как бы образцами архитектурной организации городской среды – Санкт-Петербург, Одесса, Вена, Гамбург» [7].
Так что для соседей из стран АТР здесь – ближайшая Европа, а для нынешних европейцев – «китайщина». В истории Дальнего Востока есть слои, залегающие значительно глубже второй половины XIX века – высокоразвитая и уникальная культура государства Бохай (698–926), в состав которого входила территория Приморья; затем государство чжурчжэней внесло в развитие региональной культуры свой вклад и оставило в наследие уникальный сохранившийся памятник тех времен – погребальный комплекс захоронения XII века чжурчжэньского князя Эсыкуя [10].
Так что для соседей из стран АТР здесь – ближайшая Европа, а для нынешних европейцев – «китайщина». В истории Дальнего Востока есть слои, залегающие значительно глубже второй половины XIX века – высокоразвитая и уникальная культура государства Бохай (698–926), в состав которого входила территория Приморья; затем государство чжурчжэней внесло в развитие региональной культуры свой вклад и оставило в наследие уникальный сохранившийся памятник тех времен – погребальный комплекс захоронения XII века чжурчжэньского князя Эсыкуя [10].
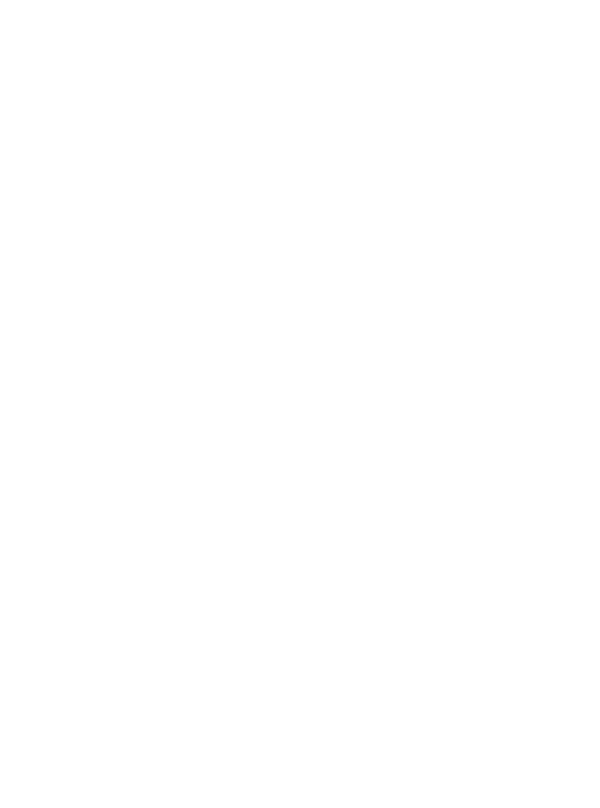
Рис. 3. Общий план экспозиции выставки «Погребальный комплекс Эсыкуя» в главном корпусе Музея им. В. К. Арсеньева (фото: ©arseniev.org)
Работа архитектором в проектном институте после окончания вуза, художником-проектировщиком (профессия «дизайнер» была занесена в табели о рангах позже, в 1986 году) в Комбинате торговой рекламы в системе «Союзторгреклама» давали бесценный опыт для дальнейшей работы. Это и крупные проекты – например, первый за Уралом ФМС «Электроника» (1985), и участие во всероссийском и международном (стран СЭВ – «Янтарная осень» в Вильнюсе) конкурсах. Не представляла, работая в КТР рядом с мастером Хростовской М. А., что она станет руководителем клуба «Икебана» при Музее им. В. К. Арсеньева (с 1998 г., в 2000 г. реорганизован в клуб «Дыхание Востока»), а в 1992 г. – участвовать в первом во Владивостоке Фестивале цветочной аранжировки от «Арт-флоры».
Салон цветов «Арктотис»
В 1988 году в районе владивостокской Миллионки, в подворотне возник первый в городе частный салон цветов «Арктотис». От разработки фирменного стиля салона до дизайна интерьера и оборудования, оформления витрин – все проектировала сама, работала в салоне художником-флористом. «Арктотис» работал в системе «INTERFLORA», бегущий Меркурий с букетом цветов – бренд с историей от 1908 года. Идея работы в салоне по единому стандарту – это и уровень, и школа, проверка теории практикой работы с цветами – художником-флористом по 12 часов в день, зачастую, с одним выходным в месяц. Красивый, но трудный бизнес и бесценный начальный опыт флориста.
Именно тогда в руки попала книга В. Пронникова «Икэбана, или Вселенная, запечатленная в цветке», где дана, пожалуй, первая в России обстоятельная и серьезная попытка анализа икебаны как искусства [11]. На материале своей кандидатской диссертации автор излагает философию и историю возникновения школ икебаны в Японии – эта книга сразу и надолго стала моим проводником в мир икебаны. На фоне каждодневной работы с коммерческим букетом икебана будила совсем другое понимание роли художника-флориста: «В основе этого искусства в Японии лежит не идея продления или возобновления прежней жизни растения, а идея создания «второй реальности», особого микромира, воссоздающего на новом уровне дух и букву вечной книги Природы. Проникновение в мир икэбаны, понимание ее языка требует от человека и профессиональных знаний этого искусства, и особого дара – тонкого зрительного восприятия пространственных отношений и колорита. Художник – создатель икэбаны должен обладать «абсолютным зрением», как композитор в музыке». Икебана больше меня не отпускала.
1990 год, международная Австралийская торговая выставка во Владивостоке: сложившейся тогда командой (где С. Сергеев – гл. архитектор, я – гл. художник советского раздела), мы компенсировали отсутствие приличного российского оборудования для экспозиции русской дизайнерской смекалкой и грамотной «аранжировкой» экспонатов. Моя первая выставочная икебана – композиция с колючками молочая Миля и желтыми гвоздиками на фоне сферического зеркала – состоялась в экспозиции Австралийской выставки.
Светланская, 13: Д. Бурлюк с сотоварищами и Театр-кабаре «Зеленая лампа»
Создавая в 1992 году в соавторстве с В. Просвирниной проект «Зеленой лампы» – театра-кабаре на базе Дома актера, мы реализовывали аутентичный началу века интерьер для театрализованного представления, стилизованного под зрелище начала ХХ годов – времени политической неразберихи и интервенции в Приморье. Над входом в здание разместилась разработанная мной вывеска, вернувшая историческое название – ул. Светланская, 13 (официально улицу Ленина переименуют позже).
Салон цветов «Арктотис»
В 1988 году в районе владивостокской Миллионки, в подворотне возник первый в городе частный салон цветов «Арктотис». От разработки фирменного стиля салона до дизайна интерьера и оборудования, оформления витрин – все проектировала сама, работала в салоне художником-флористом. «Арктотис» работал в системе «INTERFLORA», бегущий Меркурий с букетом цветов – бренд с историей от 1908 года. Идея работы в салоне по единому стандарту – это и уровень, и школа, проверка теории практикой работы с цветами – художником-флористом по 12 часов в день, зачастую, с одним выходным в месяц. Красивый, но трудный бизнес и бесценный начальный опыт флориста.
Именно тогда в руки попала книга В. Пронникова «Икэбана, или Вселенная, запечатленная в цветке», где дана, пожалуй, первая в России обстоятельная и серьезная попытка анализа икебаны как искусства [11]. На материале своей кандидатской диссертации автор излагает философию и историю возникновения школ икебаны в Японии – эта книга сразу и надолго стала моим проводником в мир икебаны. На фоне каждодневной работы с коммерческим букетом икебана будила совсем другое понимание роли художника-флориста: «В основе этого искусства в Японии лежит не идея продления или возобновления прежней жизни растения, а идея создания «второй реальности», особого микромира, воссоздающего на новом уровне дух и букву вечной книги Природы. Проникновение в мир икэбаны, понимание ее языка требует от человека и профессиональных знаний этого искусства, и особого дара – тонкого зрительного восприятия пространственных отношений и колорита. Художник – создатель икэбаны должен обладать «абсолютным зрением», как композитор в музыке». Икебана больше меня не отпускала.
1990 год, международная Австралийская торговая выставка во Владивостоке: сложившейся тогда командой (где С. Сергеев – гл. архитектор, я – гл. художник советского раздела), мы компенсировали отсутствие приличного российского оборудования для экспозиции русской дизайнерской смекалкой и грамотной «аранжировкой» экспонатов. Моя первая выставочная икебана – композиция с колючками молочая Миля и желтыми гвоздиками на фоне сферического зеркала – состоялась в экспозиции Австралийской выставки.
Светланская, 13: Д. Бурлюк с сотоварищами и Театр-кабаре «Зеленая лампа»
Создавая в 1992 году в соавторстве с В. Просвирниной проект «Зеленой лампы» – театра-кабаре на базе Дома актера, мы реализовывали аутентичный началу века интерьер для театрализованного представления, стилизованного под зрелище начала ХХ годов – времени политической неразберихи и интервенции в Приморье. Над входом в здание разместилась разработанная мной вывеска, вернувшая историческое название – ул. Светланская, 13 (официально улицу Ленина переименуют позже).
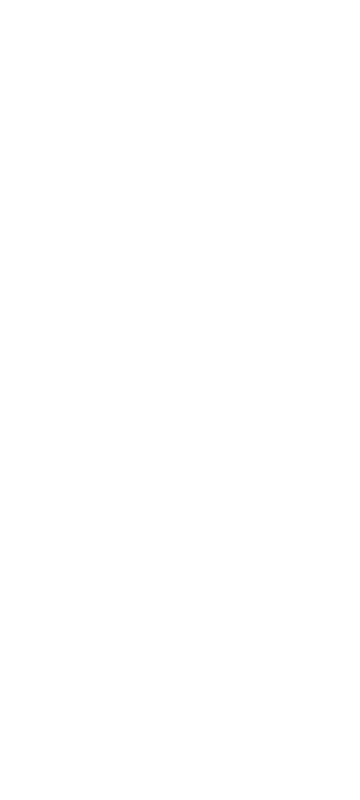
Рис. 4. Инсталляция «Зеленая лампа». ЦСИ «Артэтаж», Владивосток, 2023 г.
Большая «икебана» – ствол дерева с трепещущими от движения листочками из фольги, вполне вписывалась в созданную театральную «атмосфэру». На фоне колоритного, с элементами булгаковщины, задника бара у совы на ветке вдруг расправлялись крылья, поворачивалась голова и загорались глаза. На стойке светилась лампа с зеленым абажуром, а на окнах красовались бархатные шторы, сложносочиненные по выкройкам 1913 года из библиотеки СТД.
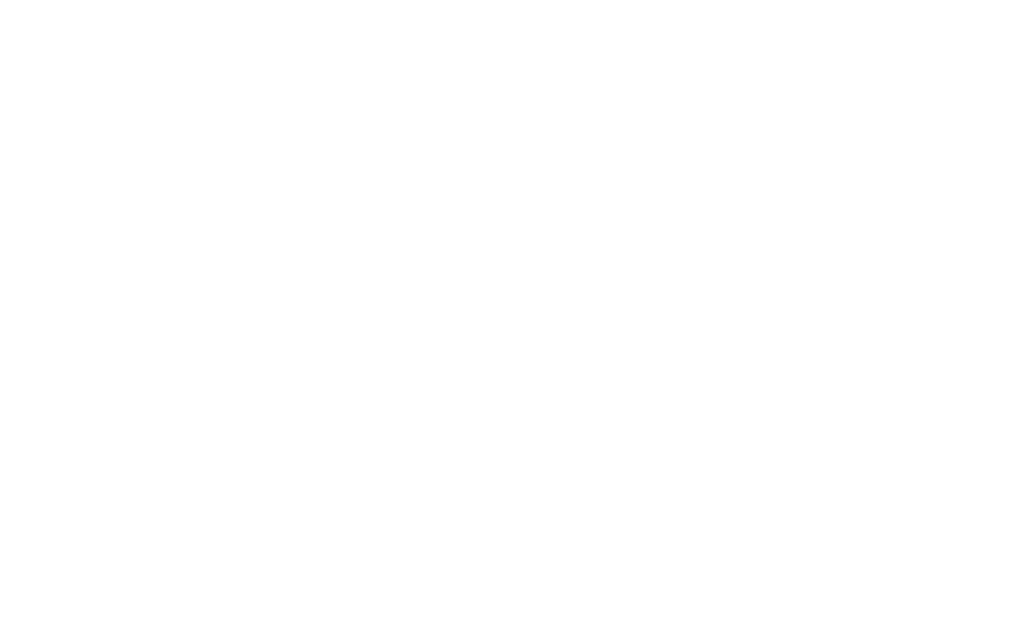
Рис. 5. Гостиница «Золотой рог»
Гостиница «Золотой рог» – это здесь, в подвале дома по Светланской, «неукротимый отрицатель» футурист Давид Бурлюк с сотоварищами (Н. Асеев, С. Третьяков) открыли футуро-кафе «Балаганчик» с затянутыми китайской тканью стенами [12].
Владивосток в то время – столица дальневосточного Вавилона, докатившаяся сюда волна беженцев создала многонациональный котел из колоритных персонажей. Это отсюда «отец русского футуризма», Д. Бурлюк отбыл в Японию, отсюда с эскадрой контр-адмирала Старка люди уходили в эмиграцию. Никто нигде их не ждал, оседали в Харбине, Шанхае – отсюда начиналась восточная страница в истории русского зарубежья.
Актер Сергей Фомин в 1990-е годы был одержим идеей создания театра-кабаре; незаурядный продюсер, он организовал команду, привлек дизайнеров, ведущих актеров театров города, хореографа, вокалистов и танцовщиков. Для программы Виктором Бусаренко на музыку Виктора Либерского были написаны тексты 10-ти новых песен.
Из воспоминаний Виктора Бусаренко: «Открывал представление сам Фомин. Пролог бурного, действительно, захватывающего новизной и своеобразием, действа, был тих и неспешен: в узком луче света, рядом со старинным граммофоном, актер напевал негромко первую из написанных нами песен:
Зрителями были: члены Верховного совета РСФСР, сотрудники аппарата губернатора... бандиты, офицеры, торговые работники, творческая интеллигенция, моряки, гости города, заезжие артисты, знакомые участников и знакомые знакомых... Не будет преувеличением сказать, что в 1990-е годы «Зеленая лампа» стала ярким культурным событием, и попасть в нее было непросто и престижно...».
Жизнь в городе в 1990-х годах была полна не только сломов старого порядка и катаклизмов, парадоксов борьбы за выживание, но и ярких открытий, знакомств, новых источников знаний, шансов для людей творческих и деятельных. Важно показать – на какой своеобразной региональной почве и в каком контексте проявлялись первые «цветки» экзотической японской икебаны в городе Владивостоке. Старинные зеркала гостиницы «Золотой рог» как будто поворачивали грани, в которых вдруг возникали отражения 1920-х годов – улицы, люди, фасады, театры, костюмы, стихи... Литературная жизнь Владивостока 1920-х годов была бурной и неоднозначной, «постижение художественных ценностей шло различными путями, несомненно одно: здесь не только знали и ценили литературу, но и творили ее сами. Дальневосточная поэзия 1917–1922 годов обладала высоким уровнем художественных исканий, обусловленных всплеском свободного искусства, временем и местом, особыми условиями» [13]. Резкие контрасты трагического и комического, лиризма и брутальности, фантастики и газетной злободневности вели к гротескному смешению стилей и жанров, которое в дальневосточной поэзии часто выступало как новое конструктивно-стилистическое единство».
Давида Бурлюка склонны изображать как фигуру эпатажную – импульсивный, провокационный бунтарь начала ХХ века. «Молодость Бурлюка, совпавшая с историческими событиями и задачами в России, была созвучна времени. В своем дальневосточном творчестве он продолжал – уже в пору угасания футуризма в России – проповедовать «речетворчество» и «заумь», писать манифесты, декреты и программные статьи по теории футуризма» [13]. Почти все произведения Д. Бурлюка американского периода – своего рода коллаж (он один из первых коллажистов в России) из стихов, рисунков, теоретических статей, графической поэзии, отзывов о нем самом, воспоминаний, дневниковых записей» [13].
Из музейных коллекций Приморского государственного музея истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева и личного архива историка моды А. Васильева в 2012 году на выставке «Русский Китай» во Владивостоке были представлены уникальные экспонаты – фотографии, одежда, предметы быта того времени. Фото выступлений в театре, стилизованные кимоно, театральные костюмы поэтессы и актрисы Ларисы Андерсен (она из Хабаровска), с которой Александр Вертинский был знаком, посвящал ей стихи.
Многокультурность города и края, базирующаяся на многослойности истории развития региона: интересно было бы исследовать – как происходило постижение образов и культуры Японии в поэзии дальневосточных авторов; охарактеризовать владивостокскую концертно-выставочную деятельность Бурлюка как поэта и художника; представить «японский» период творчества «отца русского футуризма»; создать во Владивостоке музей восточной ветви «Русского зарубежья» или дальневосточного футуризма... [14].
Владивосток в то время – столица дальневосточного Вавилона, докатившаяся сюда волна беженцев создала многонациональный котел из колоритных персонажей. Это отсюда «отец русского футуризма», Д. Бурлюк отбыл в Японию, отсюда с эскадрой контр-адмирала Старка люди уходили в эмиграцию. Никто нигде их не ждал, оседали в Харбине, Шанхае – отсюда начиналась восточная страница в истории русского зарубежья.
Актер Сергей Фомин в 1990-е годы был одержим идеей создания театра-кабаре; незаурядный продюсер, он организовал команду, привлек дизайнеров, ведущих актеров театров города, хореографа, вокалистов и танцовщиков. Для программы Виктором Бусаренко на музыку Виктора Либерского были написаны тексты 10-ти новых песен.
Из воспоминаний Виктора Бусаренко: «Открывал представление сам Фомин. Пролог бурного, действительно, захватывающего новизной и своеобразием, действа, был тих и неспешен: в узком луче света, рядом со старинным граммофоном, актер напевал негромко первую из написанных нами песен:
...Обрывок мотива
Дыханием ветра
Коснется игриво
Горячей щеки...
«Как было красиво
Волшебное ретро,
Чудесное ретро!...» –
Грустят старики...
Зрителями были: члены Верховного совета РСФСР, сотрудники аппарата губернатора... бандиты, офицеры, торговые работники, творческая интеллигенция, моряки, гости города, заезжие артисты, знакомые участников и знакомые знакомых... Не будет преувеличением сказать, что в 1990-е годы «Зеленая лампа» стала ярким культурным событием, и попасть в нее было непросто и престижно...».
Жизнь в городе в 1990-х годах была полна не только сломов старого порядка и катаклизмов, парадоксов борьбы за выживание, но и ярких открытий, знакомств, новых источников знаний, шансов для людей творческих и деятельных. Важно показать – на какой своеобразной региональной почве и в каком контексте проявлялись первые «цветки» экзотической японской икебаны в городе Владивостоке. Старинные зеркала гостиницы «Золотой рог» как будто поворачивали грани, в которых вдруг возникали отражения 1920-х годов – улицы, люди, фасады, театры, костюмы, стихи... Литературная жизнь Владивостока 1920-х годов была бурной и неоднозначной, «постижение художественных ценностей шло различными путями, несомненно одно: здесь не только знали и ценили литературу, но и творили ее сами. Дальневосточная поэзия 1917–1922 годов обладала высоким уровнем художественных исканий, обусловленных всплеском свободного искусства, временем и местом, особыми условиями» [13]. Резкие контрасты трагического и комического, лиризма и брутальности, фантастики и газетной злободневности вели к гротескному смешению стилей и жанров, которое в дальневосточной поэзии часто выступало как новое конструктивно-стилистическое единство».
Давида Бурлюка склонны изображать как фигуру эпатажную – импульсивный, провокационный бунтарь начала ХХ века. «Молодость Бурлюка, совпавшая с историческими событиями и задачами в России, была созвучна времени. В своем дальневосточном творчестве он продолжал – уже в пору угасания футуризма в России – проповедовать «речетворчество» и «заумь», писать манифесты, декреты и программные статьи по теории футуризма» [13]. Почти все произведения Д. Бурлюка американского периода – своего рода коллаж (он один из первых коллажистов в России) из стихов, рисунков, теоретических статей, графической поэзии, отзывов о нем самом, воспоминаний, дневниковых записей» [13].
Из музейных коллекций Приморского государственного музея истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева и личного архива историка моды А. Васильева в 2012 году на выставке «Русский Китай» во Владивостоке были представлены уникальные экспонаты – фотографии, одежда, предметы быта того времени. Фото выступлений в театре, стилизованные кимоно, театральные костюмы поэтессы и актрисы Ларисы Андерсен (она из Хабаровска), с которой Александр Вертинский был знаком, посвящал ей стихи.
Многокультурность города и края, базирующаяся на многослойности истории развития региона: интересно было бы исследовать – как происходило постижение образов и культуры Японии в поэзии дальневосточных авторов; охарактеризовать владивостокскую концертно-выставочную деятельность Бурлюка как поэта и художника; представить «японский» период творчества «отца русского футуризма»; создать во Владивостоке музей восточной ветви «Русского зарубежья» или дальневосточного футуризма... [14].
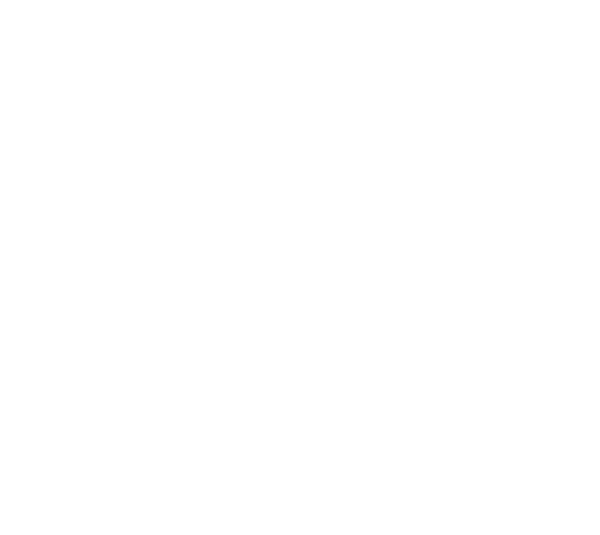
Рис. 6. Мурал с изображением Давида Бурлюка во Владивостоке. Проект «История города в темах граффити» (©culture.ru)
Футуризм и футуристы
Футуризм и футуристы со своим видением будущего, желанием стереть все старое и отправиться в новый дивный мир сыграли неоценимую роль по части синтезирования новых художественных форм. «Именно они первыми в ХХ веке стремились к использованию новых технологий в процессе создания искусства и переосмыслению технологий. Итальянские футуристы часто включали в сюжет своих произведений противоречивый мир современной им техники... с помощью включенных в композицию столкновений слов и фрагментов предложений. «Русский футуризм демонстративно отворачивался от своего итальянского первоисточника. Отстаивал свою самобытность, пытался обращаться к Востоку» (С. И. Серов. Из выступления «Именно конструктивизм», 2020 г.).
Футуристы разработали практически математическую формулу: «живопись + скульптура + пластический динамизм + свободное слово + созданный шум + архитектура = синтетический театр». Таким образом, футуризм в равной степени повлиял и на современный театр, и на альтернативное ему искусство перформанса [20].
Все возможности икебаны Согэцу Аканэ Тэсигахара продемонстрировала в своем шоу, ставшим центральным событием празднования 80-й годовщины образования школы Согэцу: «Икэбана обладает огромным потенциалом в соединении разнообразных форм искусства» [21]. Демонстрация работы мастера, сопровождаемая джазовыми барабанщиками, мощнейшим хоровым пением госпел, каллиграфией и танцем, поддержанная световыми и специальными эффектами – все в утверждение силы икебаны.
Футуризм и футуристы со своим видением будущего, желанием стереть все старое и отправиться в новый дивный мир сыграли неоценимую роль по части синтезирования новых художественных форм. «Именно они первыми в ХХ веке стремились к использованию новых технологий в процессе создания искусства и переосмыслению технологий. Итальянские футуристы часто включали в сюжет своих произведений противоречивый мир современной им техники... с помощью включенных в композицию столкновений слов и фрагментов предложений. «Русский футуризм демонстративно отворачивался от своего итальянского первоисточника. Отстаивал свою самобытность, пытался обращаться к Востоку» (С. И. Серов. Из выступления «Именно конструктивизм», 2020 г.).
Футуристы разработали практически математическую формулу: «живопись + скульптура + пластический динамизм + свободное слово + созданный шум + архитектура = синтетический театр». Таким образом, футуризм в равной степени повлиял и на современный театр, и на альтернативное ему искусство перформанса [20].
Все возможности икебаны Согэцу Аканэ Тэсигахара продемонстрировала в своем шоу, ставшим центральным событием празднования 80-й годовщины образования школы Согэцу: «Икэбана обладает огромным потенциалом в соединении разнообразных форм искусства» [21]. Демонстрация работы мастера, сопровождаемая джазовыми барабанщиками, мощнейшим хоровым пением госпел, каллиграфией и танцем, поддержанная световыми и специальными эффектами – все в утверждение силы икебаны.
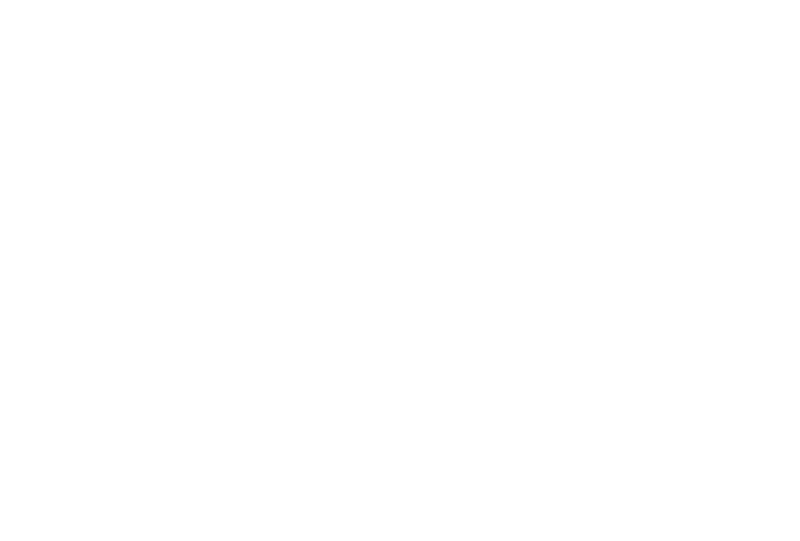
Рис. 7. Демонстрация Аканэ Тэсигахара к 80-летию школы Согэцу с участием певцов госпел, март 2007 г. (фото: ©sogetsu.or.jp)
Разработка в крае уникальной теории и практики диагностики ПАС
Один из парадоксов нашего времени – времени практического освоения космического пространства – заключается в том, что современный человек не обладает космологическим сознанием своей глубинной связи со Вселенной, сопричастности проходящим на всех ее планах процессам. Фрагменты антропокосмологических знаний присутствуют почти во всех известных нам древних религиозно-философских, натурфилософских и научных учениях [17].
Возникновение интереса к восточным теориям и практикам для человека 1990-х годов, стремящегося сформировать свое собственное мировоззрение, способствующее гармонизации с миром и личностной самореализации, и непротиворечащее современным представлениям о природе и человеке, привело к разработке в крае теории и практики диагностики ПАС – пульсовой диагностики человека на основе современных технологий. Привожу лишь несколько тем выступлений на круглом столе «Гармонизация среды обитания человека: современные технологии + древние философии» в рамках выставки Приморского краевого отделения Союза Дизайнеров России в 2005 году в музее им. В. К. Арсеньева:
«Не дальневосточный дзэн, дальневосточный и «мировой дзэн»
Обычно предпосылками развития икебаны в России называют выступления за рубежом Софу Тэсигахара, а также возросшую популярность школы Согэцу в мире. Это так, но не будем забывать об интересе к дзэну в мире. Два десятилетия (1930–1940-е годы) в Японии велись экспериментальные исследования, вскрывающие механизмы и закономерности протекания психофизиологических процессов в организме под влиянием упражнений дзэн. Психологическая сущность дзэн раскрыта в работах Дайсэцу Судзуки в 1937 и 1941 годах, в них он рассматривает такие явления, как «озарение», «просветление», воздействие позы, дыхания и концентрации внимания на организм в процессе медитации и предлагает систему оценки физиологических сдвигов в организме.
Японский психолог К. Сато в 1951 году выпустил книгу «Психология личности», изложив свои взгляды на формирование личностных качеств по методике дзэн. Сато заявил, что распространение дзэн в условиях современности будет возрастать – опирался он на интерес к дзэну среди европейской и американской общественности, на высказывания известных в мире ученых – Карла Юнга, Эриха Фромма. «Долгое время дзэн оставался совершенно неизвестным на Западе. В период между мировыми войнами у Д. Т. Судзуки появились талантливые ученики – Р. О. Блайс, Ч. Хемфриз. Но массовое увлечение дзэн началось лишь после второй мировой войны [18].
По мнению философа Г. Померанца, то, что Блайс называет дзэн, – «не дальневосточный дзэн, а нечто всеобщее, присущее всем культурам, но нашедшее в дзэн свое самое яркое, рельефное выражение. Блайс чувствует дзэн «в музыке – у Баха всегда, у Моцарта часто, в последних квартетах Бетховена; в природе, особенно в горах и камнях. В искусстве – прежде всего в византийской иконе; в Брейгеле с его нераздельностью природы и человека, в Гойе, бесстрашно вглядывающемся в страх, в Клее...». Дзэн (в дальневосточном смысле этого слова) поддерживал дзэнское, дремавшее в таких людях, как Блайс, и возвращал европейцу чувство внутренней свободы. «Остальное зависело от того, насколько глубоко люди понимали свою свободу, насколько она стала для них основой нравственного порядка. Однако «мировой дзэн» не сводится к поверхностной моде – несколько десятилетий идет диалог с ним в западной психологии, философии, литературе. Корифеи психоанализа (Карл Юнг, Эрих Фромм) увидели в дзэн путь к психосинтезу, к восстановлению духовной целостности человека. М. Хайдеггер признавал в дзэнских парадоксах глубокое понимание бытия, способное обогатить его онтологию. Повести Сэлинджера – пример обогащения одной из западных культур элементами дзэнской традиции, органически вошедшими в новый синтез» [18].
Японские психологи выступали с научными докладами, множество публикаций по дзэн появилось в научных и научно-популярных журналах США, Англии, Франции, Дании. Советские ученые знакомились с основами дзэн на лекциях К. Сато во время его визитов в СССР в 1962 и 1966 годах. В 1969 году в Лондоне на XIX съезде психологов Сато представил дзэн как законченную систему воспитания, впитавшую в себя все значительные педагогические доктрины Востока.
Когда Блайс называет «дзэнской византийскую икону или музыку Баха, это звучит парадоксально; но можно сказать, что при всем внешнем несходстве между иконой византийского или русского мастера и сунской живописью «гор вод» есть некоторое внутреннее сродство, родство глубинной интуиции. И узнавание этого внутреннего сходства всех традиций обогащает наше понимание каждой из них» [18].
Мы смотрим на любой феномен нашей реальности сквозь встроенную «оптику» нашего сознания, пропитанную символизмом «родной» культурной традиции. Этот символизм, вмонтированный в предметы, явления, события и т.п., затрудняет интерпретацию и понимание явлений «чужой» нам культуры, поскольку для этого необходимо понимание основных ее черт [23].
Любое японское искусство крепко связано с идеей через искусство формировать человека. Японское восприятие природы точно так же говорит о том, что природа, красота которой меняется от сезона к сезону, делает душу по-детски восприимчивой и способно очистить сердце любого человека. В этом и состоит японское чувство прекрасного. Приумножая добродетель в душе, человек постепенно достигает слияния с природой. Если так, то каждый внутри себя, думая о природе, ощутит себя в мощном потоке японского искусства [22].
Интерес к икебане как к дзэн-медитации в движении
Интерес у занимающихся восточными искусствами и единоборствами к занятиям икебаной возникал не только из-за тяги к ней, как к эстетическому явлению, но и как к дзэн-медитации в движении – самураи ведь тоже занимались икебаной. Проводником дзюдо во Владивостоке и в России был родоначальник отечественной школы дзюдо Василий Ощепков, получив черный пояс по дзюдо в Японии и вернувшись, он начал обучать россиян. Сейчас различными видами восточных единоборств в регионе занимаются более 20 тыс. человек. Особенно популярны: дзюдо, карате, кюдо, тайский бокс, тхэквондо, занимаются также сумо, ушу и кендо (фехтованием на бамбуковых мечах). Прибавьте еще практикующих каллиграфию, суми-э, чайную церемонию; «восточников», изучающих японский, китайский, корейский, вьетнамский языки, историю и международные отношения в АТР – их интерес к икебане не меньше.
В 1992 году издана книга А. Сарабьянова «Неизвестный русский Авангард в музеях и частных собраниях» – масса открытий, много новых имен и идей. К. Малевич говорил: «Мы обогатились машинами, светом, ужасными пушками, стальными дредноутами, экспрессами и многоэтажными домами. Перед которыми пирамиды Хеопса и Колизей кажутся игрушками. Наша гениальность – найти новые формы современного дня. Чтобы наше лицо было печатью нашего времени» [15].
Уместно вспомнить, что Давид Бурлюк, «отец русского футуризма», привезший в 1920-м году из Владивостока вместе с В. Пальмовым в Японию «Первую выставку русских художников», стал «отцом и японского футуризма» [13]. Безусловно, авангардные процессы и явления в японской живописи, литературе, прозе и поэзии, как и в авангардной икебане, необходимо рассматривать в контексте истории развития не только искусства Японии, но также – и истории развития искусства этого периода в Европе и России, в том числе на ее дальневосточных рубежах.
Владивосток – открытый город, побратим японских городов и префектур Ниигаты и Тоямы
«Еще с начала 80-х годов японские власти взяли курс на активную пропаганду национальной культуры за рубежом, стремясь создать культурные предпосылки для дальнейшего продвижения бизнеса. Особый акцент был сделан на уникальности и традиционности национальной культуры». В начале 1990-х годов ХХ века Владивосток вновь стал открытым городом, побратимом японских городов Ниигаты и Тоямы. Специалисты по каллиграфии, чайной церемонии, икебане регулярно стали приезжать к нам, проводить мастер-классы и выставки, участвовать в международных Биеннале визуальных искусств, проводившихся во Владивостоке. В октябре 1991 года в числе первых мастеров, познакомивших владивостокцев с искусством икебана, были Уэно Косю и Уэно Мисахо (школа Сагагорю) [19]. Демонстрации мастеров икебаны восхищали и завораживали гармонией композиций. Но формат мастер-классов оказывался мало результативным. Нужна была учеба – систематическая и серьезная.
Один из парадоксов нашего времени – времени практического освоения космического пространства – заключается в том, что современный человек не обладает космологическим сознанием своей глубинной связи со Вселенной, сопричастности проходящим на всех ее планах процессам. Фрагменты антропокосмологических знаний присутствуют почти во всех известных нам древних религиозно-философских, натурфилософских и научных учениях [17].
Возникновение интереса к восточным теориям и практикам для человека 1990-х годов, стремящегося сформировать свое собственное мировоззрение, способствующее гармонизации с миром и личностной самореализации, и непротиворечащее современным представлениям о природе и человеке, привело к разработке в крае теории и практики диагностики ПАС – пульсовой диагностики человека на основе современных технологий. Привожу лишь несколько тем выступлений на круглом столе «Гармонизация среды обитания человека: современные технологии + древние философии» в рамках выставки Приморского краевого отделения Союза Дизайнеров России в 2005 году в музее им. В. К. Арсеньева:
- В. В. Гольцов «Пульс человека и его свойства. Диагностика ПАС»;
- С. В. Пасканов «Проблема приоритетов в выборе направления деятельности «ландшафиста» (определение Линнея).
«Не дальневосточный дзэн, дальневосточный и «мировой дзэн»
Обычно предпосылками развития икебаны в России называют выступления за рубежом Софу Тэсигахара, а также возросшую популярность школы Согэцу в мире. Это так, но не будем забывать об интересе к дзэну в мире. Два десятилетия (1930–1940-е годы) в Японии велись экспериментальные исследования, вскрывающие механизмы и закономерности протекания психофизиологических процессов в организме под влиянием упражнений дзэн. Психологическая сущность дзэн раскрыта в работах Дайсэцу Судзуки в 1937 и 1941 годах, в них он рассматривает такие явления, как «озарение», «просветление», воздействие позы, дыхания и концентрации внимания на организм в процессе медитации и предлагает систему оценки физиологических сдвигов в организме.
Японский психолог К. Сато в 1951 году выпустил книгу «Психология личности», изложив свои взгляды на формирование личностных качеств по методике дзэн. Сато заявил, что распространение дзэн в условиях современности будет возрастать – опирался он на интерес к дзэну среди европейской и американской общественности, на высказывания известных в мире ученых – Карла Юнга, Эриха Фромма. «Долгое время дзэн оставался совершенно неизвестным на Западе. В период между мировыми войнами у Д. Т. Судзуки появились талантливые ученики – Р. О. Блайс, Ч. Хемфриз. Но массовое увлечение дзэн началось лишь после второй мировой войны [18].
По мнению философа Г. Померанца, то, что Блайс называет дзэн, – «не дальневосточный дзэн, а нечто всеобщее, присущее всем культурам, но нашедшее в дзэн свое самое яркое, рельефное выражение. Блайс чувствует дзэн «в музыке – у Баха всегда, у Моцарта часто, в последних квартетах Бетховена; в природе, особенно в горах и камнях. В искусстве – прежде всего в византийской иконе; в Брейгеле с его нераздельностью природы и человека, в Гойе, бесстрашно вглядывающемся в страх, в Клее...». Дзэн (в дальневосточном смысле этого слова) поддерживал дзэнское, дремавшее в таких людях, как Блайс, и возвращал европейцу чувство внутренней свободы. «Остальное зависело от того, насколько глубоко люди понимали свою свободу, насколько она стала для них основой нравственного порядка. Однако «мировой дзэн» не сводится к поверхностной моде – несколько десятилетий идет диалог с ним в западной психологии, философии, литературе. Корифеи психоанализа (Карл Юнг, Эрих Фромм) увидели в дзэн путь к психосинтезу, к восстановлению духовной целостности человека. М. Хайдеггер признавал в дзэнских парадоксах глубокое понимание бытия, способное обогатить его онтологию. Повести Сэлинджера – пример обогащения одной из западных культур элементами дзэнской традиции, органически вошедшими в новый синтез» [18].
Японские психологи выступали с научными докладами, множество публикаций по дзэн появилось в научных и научно-популярных журналах США, Англии, Франции, Дании. Советские ученые знакомились с основами дзэн на лекциях К. Сато во время его визитов в СССР в 1962 и 1966 годах. В 1969 году в Лондоне на XIX съезде психологов Сато представил дзэн как законченную систему воспитания, впитавшую в себя все значительные педагогические доктрины Востока.
Когда Блайс называет «дзэнской византийскую икону или музыку Баха, это звучит парадоксально; но можно сказать, что при всем внешнем несходстве между иконой византийского или русского мастера и сунской живописью «гор вод» есть некоторое внутреннее сродство, родство глубинной интуиции. И узнавание этого внутреннего сходства всех традиций обогащает наше понимание каждой из них» [18].
Мы смотрим на любой феномен нашей реальности сквозь встроенную «оптику» нашего сознания, пропитанную символизмом «родной» культурной традиции. Этот символизм, вмонтированный в предметы, явления, события и т.п., затрудняет интерпретацию и понимание явлений «чужой» нам культуры, поскольку для этого необходимо понимание основных ее черт [23].
Любое японское искусство крепко связано с идеей через искусство формировать человека. Японское восприятие природы точно так же говорит о том, что природа, красота которой меняется от сезона к сезону, делает душу по-детски восприимчивой и способно очистить сердце любого человека. В этом и состоит японское чувство прекрасного. Приумножая добродетель в душе, человек постепенно достигает слияния с природой. Если так, то каждый внутри себя, думая о природе, ощутит себя в мощном потоке японского искусства [22].
Интерес к икебане как к дзэн-медитации в движении
Интерес у занимающихся восточными искусствами и единоборствами к занятиям икебаной возникал не только из-за тяги к ней, как к эстетическому явлению, но и как к дзэн-медитации в движении – самураи ведь тоже занимались икебаной. Проводником дзюдо во Владивостоке и в России был родоначальник отечественной школы дзюдо Василий Ощепков, получив черный пояс по дзюдо в Японии и вернувшись, он начал обучать россиян. Сейчас различными видами восточных единоборств в регионе занимаются более 20 тыс. человек. Особенно популярны: дзюдо, карате, кюдо, тайский бокс, тхэквондо, занимаются также сумо, ушу и кендо (фехтованием на бамбуковых мечах). Прибавьте еще практикующих каллиграфию, суми-э, чайную церемонию; «восточников», изучающих японский, китайский, корейский, вьетнамский языки, историю и международные отношения в АТР – их интерес к икебане не меньше.
В 1992 году издана книга А. Сарабьянова «Неизвестный русский Авангард в музеях и частных собраниях» – масса открытий, много новых имен и идей. К. Малевич говорил: «Мы обогатились машинами, светом, ужасными пушками, стальными дредноутами, экспрессами и многоэтажными домами. Перед которыми пирамиды Хеопса и Колизей кажутся игрушками. Наша гениальность – найти новые формы современного дня. Чтобы наше лицо было печатью нашего времени» [15].
Уместно вспомнить, что Давид Бурлюк, «отец русского футуризма», привезший в 1920-м году из Владивостока вместе с В. Пальмовым в Японию «Первую выставку русских художников», стал «отцом и японского футуризма» [13]. Безусловно, авангардные процессы и явления в японской живописи, литературе, прозе и поэзии, как и в авангардной икебане, необходимо рассматривать в контексте истории развития не только искусства Японии, но также – и истории развития искусства этого периода в Европе и России, в том числе на ее дальневосточных рубежах.
Владивосток – открытый город, побратим японских городов и префектур Ниигаты и Тоямы
«Еще с начала 80-х годов японские власти взяли курс на активную пропаганду национальной культуры за рубежом, стремясь создать культурные предпосылки для дальнейшего продвижения бизнеса. Особый акцент был сделан на уникальности и традиционности национальной культуры». В начале 1990-х годов ХХ века Владивосток вновь стал открытым городом, побратимом японских городов Ниигаты и Тоямы. Специалисты по каллиграфии, чайной церемонии, икебане регулярно стали приезжать к нам, проводить мастер-классы и выставки, участвовать в международных Биеннале визуальных искусств, проводившихся во Владивостоке. В октябре 1991 года в числе первых мастеров, познакомивших владивостокцев с искусством икебана, были Уэно Косю и Уэно Мисахо (школа Сагагорю) [19]. Демонстрации мастеров икебаны восхищали и завораживали гармонией композиций. Но формат мастер-классов оказывался мало результативным. Нужна была учеба – систематическая и серьезная.
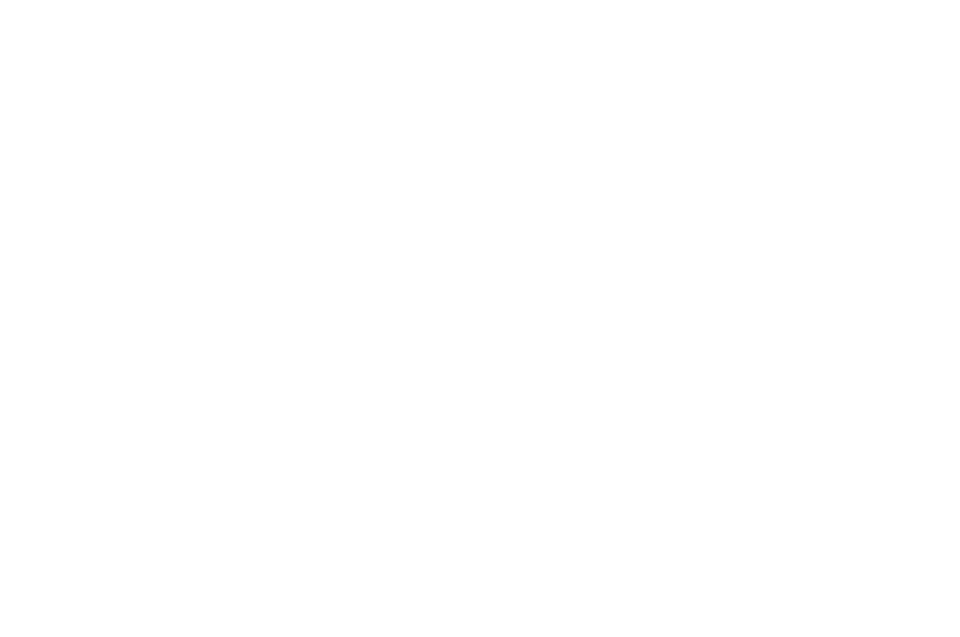
Рис. 8. На фото: Уэно Косю, Ольга Хованчук, Уэно Мисахо, Ольга Сумарокова (фото: ©uenokosyu.com)
Первые профессиональные Мастерские по обучению искусству икебаны
В апреле 2003 года при Японском центре были организованы первые профессиональные Мастерские по обучению искусству икебаны от Ассоциации мастеров икебаны г. Ниигаты во главе с исполнительным директором Ассоциации – Уэно Косю. Безусловно, это был успешный опыт международного сотрудничества, оказавший влияние на культурное пространство города.
Идея проекта прошла несколько этапов реализации, видоизменилась в процессе, но не потеряла актуальности. Мощную поддержку проекту оказывали сотрудники Генконсульства Японии и Японского центра во Владивостоке, Администрация города и края. С российской стороны координатор проекта – Юлия Куликова выступала и в роли аналитика процессов изучения искусства икебана. Координатором проекта с японской стороны был Уэно Косю. Говорят, что Путь цветка сам его выбрал, несмотря на желание мастера заниматься архитектурой. Но рос он рядом с цветами (его мама была мастером икебана), возможно, его судьба была определена с детства.
Во Владивостоке вузовские специалисты сразу оживлялись, когда при знакомстве узнавали в Косю коллегу – архитектора по образованию – значит, с ним можно и о непонятной им икебане говорить в категориях проектной культуры, опираясь на базу форкурсов Баухауза и ВХУТЕМАСа. По словам Косю: «Язык икебана» способен стать пространством, в котором происходит общение тех, кто любит это искусство, знает этот мир, умеет им восхищаться. Язык этот более чем интернационален, он универсален, поскольку все мастера икебана привносят в чисто японскую традицию свое национальное понимание» [22].
Создание этого пространства во Владивостоке много лет проходило под руководством Уэно Косю. С ним мы учились понимать, чувствовать и создавать икебану. Он с нами – как «ответственный садовник, который сажает, питает, пропалывает сорняки, а затем позволяет вещам расти в соответствии с природой. Таких людей можно назвать «садовниками космоса», людьми, которые «медленно формируют свою жизнь и окружающую среду» с правильной оценкой отношения между человеческой деятельностью и порядком природы [24].
В апреле 2003 года при Японском центре были организованы первые профессиональные Мастерские по обучению искусству икебаны от Ассоциации мастеров икебаны г. Ниигаты во главе с исполнительным директором Ассоциации – Уэно Косю. Безусловно, это был успешный опыт международного сотрудничества, оказавший влияние на культурное пространство города.
Идея проекта прошла несколько этапов реализации, видоизменилась в процессе, но не потеряла актуальности. Мощную поддержку проекту оказывали сотрудники Генконсульства Японии и Японского центра во Владивостоке, Администрация города и края. С российской стороны координатор проекта – Юлия Куликова выступала и в роли аналитика процессов изучения искусства икебана. Координатором проекта с японской стороны был Уэно Косю. Говорят, что Путь цветка сам его выбрал, несмотря на желание мастера заниматься архитектурой. Но рос он рядом с цветами (его мама была мастером икебана), возможно, его судьба была определена с детства.
Во Владивостоке вузовские специалисты сразу оживлялись, когда при знакомстве узнавали в Косю коллегу – архитектора по образованию – значит, с ним можно и о непонятной им икебане говорить в категориях проектной культуры, опираясь на базу форкурсов Баухауза и ВХУТЕМАСа. По словам Косю: «Язык икебана» способен стать пространством, в котором происходит общение тех, кто любит это искусство, знает этот мир, умеет им восхищаться. Язык этот более чем интернационален, он универсален, поскольку все мастера икебана привносят в чисто японскую традицию свое национальное понимание» [22].
Создание этого пространства во Владивостоке много лет проходило под руководством Уэно Косю. С ним мы учились понимать, чувствовать и создавать икебану. Он с нами – как «ответственный садовник, который сажает, питает, пропалывает сорняки, а затем позволяет вещам расти в соответствии с природой. Таких людей можно назвать «садовниками космоса», людьми, которые «медленно формируют свою жизнь и окружающую среду» с правильной оценкой отношения между человеческой деятельностью и порядком природы [24].
- Кензо Танге. Архитектура и градостроительство. Мастера архитектуры. М.: Стройиздат, 1978. С. 17–54.
- Туркатенко, М. Японская архитектура: глобализация и традиции. Современная японская архитектура сохраняет национальные черты в эпоху глобализации // Кровли : интернет издание. 13.09.2011. URL: https://krovlirussia.ru/rubriki/materialy-i-texnologii/yaponskaya-arxitektura-globalizaciya-i-tradicii-covremennaya-yaponskaya-arxitektura-soxranyaet-nacionalnye-cherty-v-epoxu-globalizacii (дата обращения: 22.01.2025).
- Иттен, И. Искусство цвета / пер. с нем.; предисловие Л. М. Монаховой. М.: изд. Д. Аронов, 2000. С. 7–8.
- Личманюк, Н. Н. Форкурс И. Иттена: раскрытие творческого «я» и формирование экосознания // Материалы международной научной конференции «Баухауз и художественные школы эпохи Авангарда», 2019. URL: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/18343/294.pdf?sequence=)(дата обращения: 24.01.2024).
- Стригалев, А. Место архитектурного факультета ВХУТЕМАСа- ВХУТЕИНа в истории советской архитектуры // ВХУТЕМАС – МАРХИ. 1920–1980. Традиции и новаторство: Материалы научной конференции. Москва, 1986. С. 22, 24.
- Лаврентьев, А. Н. Производственное искусство, художественно-промышленное образование и проектный подход // Пространство ВХУТЕМАС в мировой культуре XX–XXI веков. К 100-летию ВХУТЕМАС под эгидой ЮНЕСКО. Москва, 2020. С. 45.
- Обертас, О. Г. Маскароны Владивостока: учебное пособие. Владивосток: изд-во ВГУЭС, 2016. 76 с.
- Давыдова, Л. И. «Владивостокская античность» или взгляд сквозь призму морской топонимики города // Художественная жизнь Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона: сб. материалов VIII научно-практической конференции / Приморская государственная картинная галерея. Владивосток: ЗАО «ЛИТ», 2024. 16 с.
- Иванова, А. П., Глатоленкова, Е. В., Базилевич, М. Е. Репрезентация империи и архитектурный образ Родины: Тихоокеанская Россия и русский Туркестан // Архитектон: известия вузов. №2 (74) Июнь, 2021.
- Погребальный комплекс чжурчженьского князя Эсыкуя // arseniev.org : официальный сайт Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. URL: https://arseniev.org/exhibit/427 (дата обращения: 22.01.2025).
- Пронников, В. Икэбана, или Вселенная, запечатленная в цветке. М.: Наука, 1985. С. 5–6.
- Сарабьянов, А. Д. Русский авангард. И не только. М.: Изд-во АСТ, 2023. 304 с.
- Русская футуристическая поэзия на Дальнем Востоке 1917-1922 гг.: идейно-художественные искания, поэтические имена : автореф. дис… канд. филол. наук : 10.01.01 / Елена Олеговна Кириллова ; ДВГУ. Владивосток, 2007. 24 с.
- Калиберова, Т. Создадим музей русского зарубежья // Власть книги: библиотека, издательство, вуз. 2018, Вып. 18. URL: https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/articles-almanac-18-2018 (дата обращения: 10.09.2024).
- Сарабьянов, А. Д. Неизвестный русский Авангард в музеях и частных собраниях. М. : Советский художник, 1992. С. 9, 192.
- Швидковский, Д. О. Вступительное слово ректора МАРХИ // Материалы Международной научной конференции «Пространство ВХУТЕМАС в мировой культуре XX-XXI веков. М. : МАРХИ, 2020.
- Еремеев, В. Е. Чертеж антропокосмоса. М., 1993.
- Померанц, Г., Маркина, З. Великие религии мира. М.; СПб : Центр гуманитарых инициатив, 2017.
- Официальный сайт школы Сагагорю, Киото. URL: http://www.sagagoryu.gr.jp (дата обращения: 19.01.2025).
- Решетова, М. В. Коллаж и перформанс как стратегии размывания границ между традиционными практиками искусства // Вестник ОГУ. №9 (145)/сентябрь. 2012.
- A Timeline of Akane Тeshigahara // IKEBANA SOGETSU : сайт школы Согэцу. URL:https://www.sogetsu.or.jp/e/about/iemoto/timeline (дата обращения 25.01.2025).
- Уэно, К. Пространство и время. Глава II. Японцы и чувство прекрасного: размышления о будущем искусства икебана / пер. О. Е. Сумароковой // Клуб любителей японской культуры во Владивостоке : официальный сайт. 2009. URL: https://www.jp-club.ru/yapontsyi-i-chuvstvo-prekrasnogo-razmyishleniya-o-buduschem-iskusstva-ikebana/ (дата обращения: 25.01.2025).
- Личманюк, Н. Н. Традиционный японский сад в контексте современного города // Материалы Первого Российско-Китайского форума «Теория и практика художественного образования: вызовы современности, традиции и национальные школы XXI века». М., 2023. С. 107. URL: https://www.prdesign.ru/text/media/pdf/Rodkin-forum-2024.pdf (дата обращения: 26.01.2025).
- Купер, Д. Э. Садоводы Космоса: Путь сада в восточноазиатской традиции. URL: https://www.academia.edu/14134121/The_Good_Gardener_Nature_Humanity_and_the_Garden (дата обращения: 26.01.2025).
Все материалы предоставлены автором. Статья опубликована по итогам международной конференции «В соавторстве с Природой» в рамках «WID-2024 — Международных дней интерьерного дизайна во Владивостоке», 2024, г. Владивосток.
Для цитирования:
Личманюк, Н. Н. Размышления об истории развития икебаны во Владивостоке // Yugen Landscape Journal : электронный журнал. 2025. № 3. URL: https://yugenlandscape.ru/2025/lichmanyuk-razmishleniya-ob-istorii-razvitiya-ikebani-vo-vladivostoke. Дата публикации: 14 мая 2025.
For citation:
Lichmanyuk, N. N. The development of ikebana in Vladivostok: the reflections on its history. Yugen Landscape Journal. 2025, No. 3. URL: https://yugenlandscape.ru/2025/lichmanyuk-razmishleniya-ob-istorii-razvitiya-ikebani-vo-vladivostoke.
Личманюк, Н. Н. Размышления об истории развития икебаны во Владивостоке // Yugen Landscape Journal : электронный журнал. 2025. № 3. URL: https://yugenlandscape.ru/2025/lichmanyuk-razmishleniya-ob-istorii-razvitiya-ikebani-vo-vladivostoke. Дата публикации: 14 мая 2025.
For citation:
Lichmanyuk, N. N. The development of ikebana in Vladivostok: the reflections on its history. Yugen Landscape Journal. 2025, No. 3. URL: https://yugenlandscape.ru/2025/lichmanyuk-razmishleniya-ob-istorii-razvitiya-ikebani-vo-vladivostoke.
О журнале
Электронное сетевое периодическое научно-популярное издание «Yugen Landscape Journal», №3, 2025
Учредитель и издатель
C.А. Мостовой
Главный редактор
C.А. Мостовой
Редакционный совет
Н.В. Ершова, канд. экон. наук
М.Е. Игнатьева, PhD (Австралия)
Д. Иманиси, PhD (Япония)
А.С. Мостовая, канд. ист. наук
С.А. Мостовой, канд. ист. наук
М.Е. Игнатьева, PhD (Австралия)
Д. Иманиси, PhD (Япония)
А.С. Мостовая, канд. ист. наук
С.А. Мостовой, канд. ист. наук
Зам. гл. редактора
А.С. Мостовая
Дизайн и верстка
С.А. Мостовой
Дата публикации
14 мая 2025 г.
На обложке
Райский сад («Сад цветов, камней и воды») в холле Штаб-квартиры школы икэбана Согэцу (Sogetsu Kaikan), Токио, арх. Исаму Ногучи (Фото: © С.А. Мостовой)
Обратиться в редакцию
yugenland@mail.ru
(984) 146-40-52
(984) 146-40-52
Официальный сайт
yugenlandscape.ru
Регистрация
ISSN 2782-5388
Сетевое издание зарегистрировано в Роскомнадзоре. Рег. № СМИ Эл № ФС77-80766 от 09 апреля 2021 г.
Сетевое издание зарегистрировано в Роскомнадзоре. Рег. № СМИ Эл № ФС77-80766 от 09 апреля 2021 г.
Авторские права
Перепечатка, воспроизведение и иное использование опубликованных материалов допускается только с разрешения редакции и при соблюдении действующих норм защиты авторских прав. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несёт ответственность за точность и достоверность сведений, приводимых авторами.
© Yugen Landscape Journal (СМИ), 2025
Все права защищены
© Yugen Landscape Journal (СМИ), 2025
Все права защищены