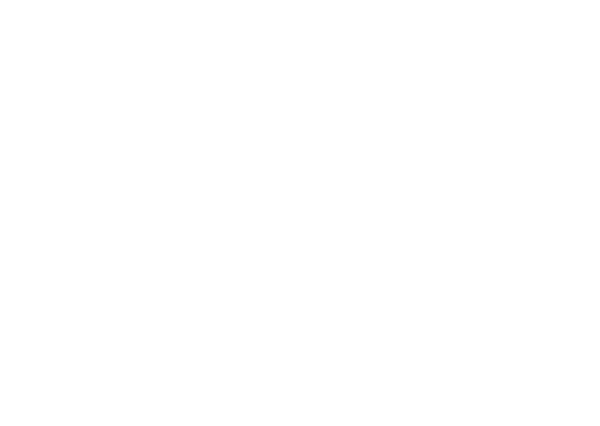ландшафт
Матрусова Татьяна Николаевна
Японский чайный сад: взгляд из России
к.э.н., старший научный сотрудник,
член Ассоциации японоведов, ИВ РАН, г. Москва
член Ассоциации японоведов, ИВ РАН, г. Москва

12+
Japanese tea garden: A view from Russia
PhD, Senior Researcher, Member of Russian Association of Japanologists, Institute of Oriental Studies RAS, Moscow, Russia
Tatiana N. Matrusova

Сад виллы Мурин-ан, г. Киото, Япония
14 мая 2025
An interest in Japanese gardens among the country plot owners in Russia has significantly increased, but their project representations remain poor. The main problem for Russian practitioners is not only the discrepancy between the conditions of the development of horticultural art in Russia and Japan, but also the profound difference in the socio-cultural background and the lack of suitable samples of Japanese garden for reproduction in local conditions. The bunjin gardens (urban intellectuals) related to the roots of the sencha tea culture still remain unexplored. The sencha-do tea culture, aesthetically and spiritually, brought the idea of a more open world with a human as a part of Nature. New garden based on this conception experienced strong foreign influence from both China and the West did not lose their Japanese identity. At that point gardens representing the sencha-do tea culture may be of great interest for the tea and garden enthusiasts in Russia.
publication online: may 14, 2025
Вот уже несколько десятков лет профессиональные дизайнеры и многочисленные садоводы-любители в нашей стране проявляют большой интерес к японским садам. Так называемый дзэнский чайный сад, который часто попадает в сферу их внимания как объект для созерцания и воспроизведения, относится к одному из довольно хорошо освещенных в литературе типов японских садов. Однако попытки перенести такие сады в чужую среду чаще все сводятся к размещению отдельных специфических, национально окрашенных деталей, которые не в состоянии выразить суть эстетики японского сада. В то же время, дзэнский чайный сад в самой Японии уже давно мирно существует наряду с другим типом сада, который, также основан на культуре чая, только не маття, а сэнтя, и гораздо более пригоден, на наш взгляд, для перенесения в западную страну.
Речь идет о садах так называемых городских японских интеллектуалов, которые в условиях кардинальных сдвигов в политической и социальной системе Японии стали появляться там, начиная с середины XVII века, а в массовых масштабах – примерно с конца XVIII века. Это время в Японии характеризовалось большими социальными и экономическими изменениями, которые были связаны с переходом страны от средневековых междоусобиц к полному контролю над обществом со стороны верхушки военного сословия. В стране развивалась экономика, быстро росли города, куда стекалось население со всей страны. Здесь появлялись новые социальные слои и группы людей, в составе которых несмотря на жесткую, официально предписанную социальную иерархию, вместе оказывались представители самых разных слоев общества. Среди образованной части городского населения были и те, кто прежде составлял ныне гонимую аристократию, бывшие землевладельцы даймё и разорявшееся воинское сословие, а также лица, которые представляли совсем новый социальный класс, – торговцы и промышленники [5]. В истории японской культуры они известны как бундзин (англ. «literati»), интеллектуалы, образованная часть населения городов.
Бундзин представляли собой довольно разнородное сообщество не только в социальном плане, но и с точки зрения своих занятий. Большинство были профессионалами и зарабатывали себе на жизнь своим ремеслом. Одни считали себя больше художниками, а другие – философами, поэтами или каллиграфами, хотя все они были прекрасно и многосторонне образованы, каждый владел и занимался несколькими видами искусств. Их звали универсалами, даже энциклопедистами [8, с. 75]. Многие заняли в истории японского искусства, литературы и науки видные места. Среди них немало тех, кто оставил свой след также и в истории садового искусства, это Исикава Дзёдзан, Ёса Бусон, Икэ-но Тайга, Рай Санъё, Ямамото Сюнкё, Кансэцу Хасимото и другие.
С момента своего появления в японских городах интеллектуалы отличались протестными настроениями. Их все меньше устраивали старые образцы культуры, больше соответствовавшие прежним временам феодальных войн, чем современности. Они искали иных, менее формальных и жестких форм духовной жизни. Особенностью их воззрений и чаяний становилась ориентация на образцы китайской культуры в широком смысле слова. Они видели в ней идеалы как для творчества, так и для самой своей жизни, свободной, на их взгляд, как в Китае, от условностей косного общества и жестокостей властей. Само название этой группы интеллектуалов восходит к соответствующему понятию, взятому из далекой китайской истории: бундзин по-японски – это то же самое, что по-китайски вэньжэнь, или буквально «человек культуры».
Китайское влияние на Японию традиционно было довольно сильным во все времена. Начиная с 40-х годов XVII века, оно в очередной раз усилилось, поскольку в это время в Японию потянулись беженцы из числа прежней китайской элиты, разбитой маньчжурами. В очередной раз они стали для японских интеллектуалов источником нескольких актуальных для них идей, которые соответствовали их представлениям о своем месте в обществе. И вновь особое внимание в китайской философии получила идеология отшельничества, в которой городские интеллектуалы времен Эдо (1603–1867) увидели способ уйти от окружающей действительности. Учитывая интровертный характер японцев, желание уединиться, скрыться от мира и уйти в себя, следует сказать, что отшельничество не представляло собой новое для Японии явление.
На протяжении как минимум всего XVI века отшельничество в Японии ассоциировалось с дзэнской чайной культурой, а физически – с дзэнским чайным садом родзи. Весь строй этой чайной культуры определялся строгой самурайской традицией. Начиная с самого пространства чайного сада, заключенного в две (иногда даже в три) ограды, и завершая крошечным чайным домиком, где происходили чайные бдения, – все подчеркивало абсолютную герметичность, закрытость этого мира. Сад был воплощением дзэнского пути из суетного мира в мир просветления и как таковой не был предметом любования или наслаждения. Для дзэнского процесса самопостижения сам по себе сад в известном смысле был не так уж важен. Начиная с XVII века, дзэнский чайный сад стал уходить в прошлое, и интеллектуалы всячески способствовали этому, справедливо усматривая в нем связь с жесткой идеологией сёгунской власти, против которой они боролись. Место прежней дзэнской церемонии на основе порошкового чая маття стала занимать новая чайная культура, основанная на листовом заварном чае сэнтя. Чай сэнтя, пришедший в Японию вместе с китайскими беженцами, вызывал симпатии сравнительной простотой способа приготовления. Кроме того, этот способ считался более целебным, к его популяризации привлекали врачей. В идеале употребление заварного чая вообще не связывали с каким-либо ритуалом, его можно было пить в любой приятной обстановке, в веселой компании с друзьями. Поэтому новая чайная идеология сэнтя-до (или «путь чая сэнтя») была довольно быстро воспринята с энтузиазмом как в низах, так и среди образованного слоя общества. Эстетически и духовно чайная культура сэнтя-до несла с собой идею более открытого мира, в котором человек является частью большой Природы, и это кардинально отличало ее от прежнего понимания целей чайного действа тяною. На этой основе, которая возвращала человека к красоте природы как самоценности, и стал развиваться новый сад. Считается, что первым любителем чая сэнтя в Японии, создавшим еще в первой половине XVII века отшельнический сад, сильно отличавшийся от дзэнского, был художник и поэт, некогда соратник самого Токугавы Иэясу, почитатель китайской культуры, знаменитый Исикава Дзёдзан (1583–1672).
Правда, поначалу ничто не связывало чайную культуру сэнтя-до с красотой специально сделанного для этого сада. Чай сэнтя ассоциировался просто с тем живописным окружением, в котором теперь можно было проводить время, свободное от забот. Пока стремления воспроизвести подобные ландшафты непосредственно в самих садах не было, приискивались места, уже обладающие естественной красотой – на берегах рек и в долинах гор. Хозяином и автором одного из садов «с природой вовне» был знаменитый создатель многотомной неофициальной истории Японии, интеллектуал Рай Санъё (1780–1832). Его сад появился в Киото на реке Камо как раз в том месте, где на противоположном берегу открывался удивительно красивый вид. Вид был настолько хорош, что само название сада, возникшее как его описание – санси суймэй (букв. «пурпурные горы с кристальными родниками»), практически сразу закрепилось в японском языке в качестве нарицательного выражения для обозначения красоты природы вообще. Выражение «санси суймэй» до сих пор означает, что лучше слов о красоте пейзажа не найти. В применении к формировавшейся идеологии садов интеллектуалов оно приобретало символическое значение и выражало суть перемен, которые происходили в отношении японцев к саду как выражению красоты самой природы. В результате встроенность природы в сад Санъё, слияние с окружающей красотой внешнего мира и нераздельность с ним стало заявкой не только на самостоятельность нового типа японского сада, основанного на идеологии чайной культуры сэнтя-до, но и на метод его устройства.
В первой половине XIX века интерес к садам в стиле сэнтя-до возрос настолько, что появляются первые учебники по садовому искусству с рекомендациями по их устройству. Большое внимание в них обращалось на изображение ручьев и других источников воды, важных для организации чайных мероприятий (см. рис. 1 [13, с. 40], [6, Plate XXXIII]).
Речь идет о садах так называемых городских японских интеллектуалов, которые в условиях кардинальных сдвигов в политической и социальной системе Японии стали появляться там, начиная с середины XVII века, а в массовых масштабах – примерно с конца XVIII века. Это время в Японии характеризовалось большими социальными и экономическими изменениями, которые были связаны с переходом страны от средневековых междоусобиц к полному контролю над обществом со стороны верхушки военного сословия. В стране развивалась экономика, быстро росли города, куда стекалось население со всей страны. Здесь появлялись новые социальные слои и группы людей, в составе которых несмотря на жесткую, официально предписанную социальную иерархию, вместе оказывались представители самых разных слоев общества. Среди образованной части городского населения были и те, кто прежде составлял ныне гонимую аристократию, бывшие землевладельцы даймё и разорявшееся воинское сословие, а также лица, которые представляли совсем новый социальный класс, – торговцы и промышленники [5]. В истории японской культуры они известны как бундзин (англ. «literati»), интеллектуалы, образованная часть населения городов.
Бундзин представляли собой довольно разнородное сообщество не только в социальном плане, но и с точки зрения своих занятий. Большинство были профессионалами и зарабатывали себе на жизнь своим ремеслом. Одни считали себя больше художниками, а другие – философами, поэтами или каллиграфами, хотя все они были прекрасно и многосторонне образованы, каждый владел и занимался несколькими видами искусств. Их звали универсалами, даже энциклопедистами [8, с. 75]. Многие заняли в истории японского искусства, литературы и науки видные места. Среди них немало тех, кто оставил свой след также и в истории садового искусства, это Исикава Дзёдзан, Ёса Бусон, Икэ-но Тайга, Рай Санъё, Ямамото Сюнкё, Кансэцу Хасимото и другие.
С момента своего появления в японских городах интеллектуалы отличались протестными настроениями. Их все меньше устраивали старые образцы культуры, больше соответствовавшие прежним временам феодальных войн, чем современности. Они искали иных, менее формальных и жестких форм духовной жизни. Особенностью их воззрений и чаяний становилась ориентация на образцы китайской культуры в широком смысле слова. Они видели в ней идеалы как для творчества, так и для самой своей жизни, свободной, на их взгляд, как в Китае, от условностей косного общества и жестокостей властей. Само название этой группы интеллектуалов восходит к соответствующему понятию, взятому из далекой китайской истории: бундзин по-японски – это то же самое, что по-китайски вэньжэнь, или буквально «человек культуры».
Китайское влияние на Японию традиционно было довольно сильным во все времена. Начиная с 40-х годов XVII века, оно в очередной раз усилилось, поскольку в это время в Японию потянулись беженцы из числа прежней китайской элиты, разбитой маньчжурами. В очередной раз они стали для японских интеллектуалов источником нескольких актуальных для них идей, которые соответствовали их представлениям о своем месте в обществе. И вновь особое внимание в китайской философии получила идеология отшельничества, в которой городские интеллектуалы времен Эдо (1603–1867) увидели способ уйти от окружающей действительности. Учитывая интровертный характер японцев, желание уединиться, скрыться от мира и уйти в себя, следует сказать, что отшельничество не представляло собой новое для Японии явление.
На протяжении как минимум всего XVI века отшельничество в Японии ассоциировалось с дзэнской чайной культурой, а физически – с дзэнским чайным садом родзи. Весь строй этой чайной культуры определялся строгой самурайской традицией. Начиная с самого пространства чайного сада, заключенного в две (иногда даже в три) ограды, и завершая крошечным чайным домиком, где происходили чайные бдения, – все подчеркивало абсолютную герметичность, закрытость этого мира. Сад был воплощением дзэнского пути из суетного мира в мир просветления и как таковой не был предметом любования или наслаждения. Для дзэнского процесса самопостижения сам по себе сад в известном смысле был не так уж важен. Начиная с XVII века, дзэнский чайный сад стал уходить в прошлое, и интеллектуалы всячески способствовали этому, справедливо усматривая в нем связь с жесткой идеологией сёгунской власти, против которой они боролись. Место прежней дзэнской церемонии на основе порошкового чая маття стала занимать новая чайная культура, основанная на листовом заварном чае сэнтя. Чай сэнтя, пришедший в Японию вместе с китайскими беженцами, вызывал симпатии сравнительной простотой способа приготовления. Кроме того, этот способ считался более целебным, к его популяризации привлекали врачей. В идеале употребление заварного чая вообще не связывали с каким-либо ритуалом, его можно было пить в любой приятной обстановке, в веселой компании с друзьями. Поэтому новая чайная идеология сэнтя-до (или «путь чая сэнтя») была довольно быстро воспринята с энтузиазмом как в низах, так и среди образованного слоя общества. Эстетически и духовно чайная культура сэнтя-до несла с собой идею более открытого мира, в котором человек является частью большой Природы, и это кардинально отличало ее от прежнего понимания целей чайного действа тяною. На этой основе, которая возвращала человека к красоте природы как самоценности, и стал развиваться новый сад. Считается, что первым любителем чая сэнтя в Японии, создавшим еще в первой половине XVII века отшельнический сад, сильно отличавшийся от дзэнского, был художник и поэт, некогда соратник самого Токугавы Иэясу, почитатель китайской культуры, знаменитый Исикава Дзёдзан (1583–1672).
Правда, поначалу ничто не связывало чайную культуру сэнтя-до с красотой специально сделанного для этого сада. Чай сэнтя ассоциировался просто с тем живописным окружением, в котором теперь можно было проводить время, свободное от забот. Пока стремления воспроизвести подобные ландшафты непосредственно в самих садах не было, приискивались места, уже обладающие естественной красотой – на берегах рек и в долинах гор. Хозяином и автором одного из садов «с природой вовне» был знаменитый создатель многотомной неофициальной истории Японии, интеллектуал Рай Санъё (1780–1832). Его сад появился в Киото на реке Камо как раз в том месте, где на противоположном берегу открывался удивительно красивый вид. Вид был настолько хорош, что само название сада, возникшее как его описание – санси суймэй (букв. «пурпурные горы с кристальными родниками»), практически сразу закрепилось в японском языке в качестве нарицательного выражения для обозначения красоты природы вообще. Выражение «санси суймэй» до сих пор означает, что лучше слов о красоте пейзажа не найти. В применении к формировавшейся идеологии садов интеллектуалов оно приобретало символическое значение и выражало суть перемен, которые происходили в отношении японцев к саду как выражению красоты самой природы. В результате встроенность природы в сад Санъё, слияние с окружающей красотой внешнего мира и нераздельность с ним стало заявкой не только на самостоятельность нового типа японского сада, основанного на идеологии чайной культуры сэнтя-до, но и на метод его устройства.
В первой половине XIX века интерес к садам в стиле сэнтя-до возрос настолько, что появляются первые учебники по садовому искусству с рекомендациями по их устройству. Большое внимание в них обращалось на изображение ручьев и других источников воды, важных для организации чайных мероприятий (см. рис. 1 [13, с. 40], [6, Plate XXXIII]).
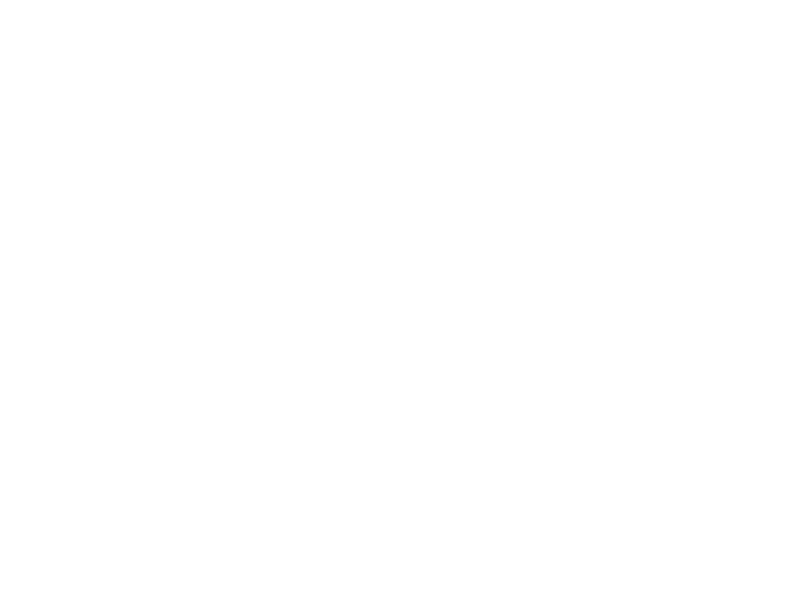
Рис. 1. Чайный сад в стиле сэнтя-до
И это не было случайностью. Дело в том, что в числе правил, которые составил автор первого трактата о заварном чае сэнтя китайский поэт Лу Ю (1125–1210), самым важным считалось употребление природной воды высокого качества, при этом предпочтение отдавалось воде из ручьев и водопадов.
Для японской садоводческой практики это не оказалось большой новостью, тем более непреодолимым препятствием при переходе на иной стиль. Синтоистские корни японской культуры, в которой традиция очищения водой испокон веков исполнялась на ручьях, реках и водопадах, оказались весьма полезными аргументами в пользу этого стиля. Более того, и в истории развития японского сада использование образа текущей воды имело давние корни. Как выяснилось относительно недавно, в основе прототипа японского сада лежал именно ручей.
Для японской садоводческой практики это не оказалось большой новостью, тем более непреодолимым препятствием при переходе на иной стиль. Синтоистские корни японской культуры, в которой традиция очищения водой испокон веков исполнялась на ручьях, реках и водопадах, оказались весьма полезными аргументами в пользу этого стиля. Более того, и в истории развития японского сада использование образа текущей воды имело давние корни. Как выяснилось относительно недавно, в основе прототипа японского сада лежал именно ручей.
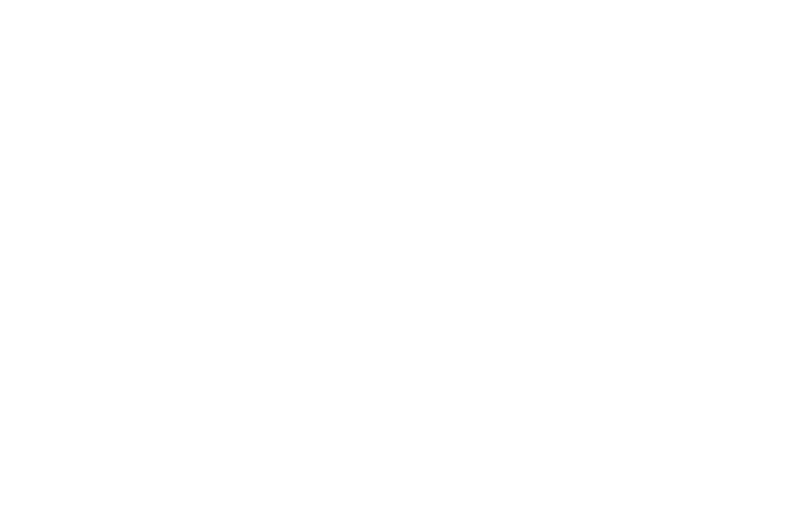
Рис. 2. Дзё-но-коси исэки (преф. Миэ), прототип современного японского сада
Речь идет о ручье Дзё-но-коси исэки, обнаруженном археологами в 2000 году в преф. Миэ, который, как оказалось, был создан в конце IV – середине V веков еще до того, как в Японию был завезен буддизм из Китая. Он состоит из трех рукавов, заключенных в пологие усыпанные галькой берега, и имеет форму литеры «Y». У каждого из рукавов есть свой источник воды, оформленный искусственным образом в виде композиций из камня. Три камня, стоящие в месте схождения рукавов, образуют треугольник со ступенями, спускающимися к воде. Во всем облике ручья видно его рукотворное происхождение и предназначенность для проведения ритуальных действий. Более того, по всем признакам некогда этот ручей имел ярко выраженный эстетический смысл и, по мнению ученых, является прототипом японского сада. Впоследствии в садовой практике Японии такая форма ручья появлялась не однажды.
Опора сада на ручей, как на организующее начало, была особенно характерна для ранних этапов становления и развития японского сада. В дальнейшем под влиянием различных причин социального и политического характера, которые определили изменения в эстетических вкусах общества, ручьи уступили место прудам. Буддизм, особенно в дзэнском варианте, был одним из основных инструментов в руках правящей верхушки, который определил эти вкусы в области садового искусства, в том числе, через влияние чайной культуры. Как бы то ни было, недавние археологические исследования показали, что еще в период Нара (710–794 гг.) ручей в японском саду, имея в своем основании, кроме синтоизма, также уже и даосские корни, занимал видное место.
Опора сада на ручей, как на организующее начало, была особенно характерна для ранних этапов становления и развития японского сада. В дальнейшем под влиянием различных причин социального и политического характера, которые определили изменения в эстетических вкусах общества, ручьи уступили место прудам. Буддизм, особенно в дзэнском варианте, был одним из основных инструментов в руках правящей верхушки, который определил эти вкусы в области садового искусства, в том числе, через влияние чайной культуры. Как бы то ни было, недавние археологические исследования показали, что еще в период Нара (710–794 гг.) ручей в японском саду, имея в своем основании, кроме синтоизма, также уже и даосские корни, занимал видное место.
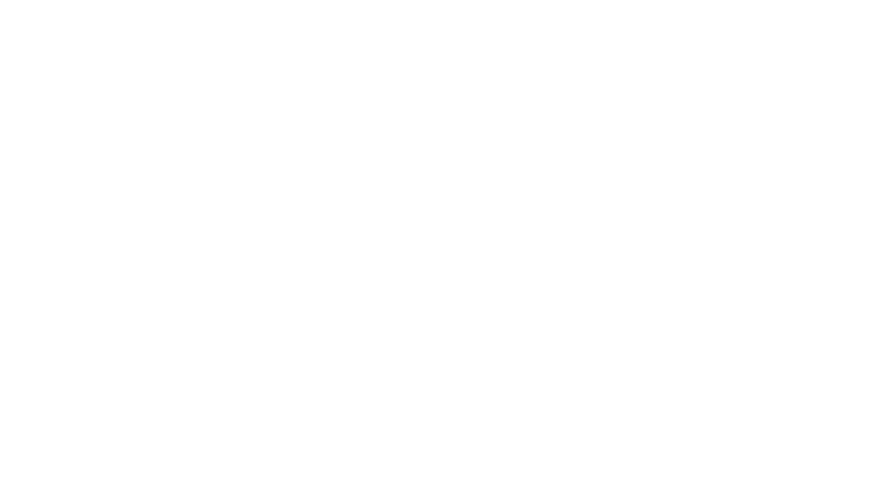
Рис. 3. Ручей в саду Кюсэки, г. Нара
Появление ручья в японском саду в середине периода Эдо было закономерным событием, поскольку оно было частью движения, которое развернулось в это время среди японских интеллектуалов за возврат к национальным корням. Постепенно именно ручей становится основным элементом, привлекающим японского дизайнера при разработке пространства усадебного сада. К числу самых первых случаев устройства садов с ручьями относится сад середины ХVII века Сэнган-эн, владельцем которого был клан местных даймё. Характерно, что в дизайн сада был включен ручей естественного происхождения. Он не только служил источником чистой воды для чая, но и определял ту связь сада с природой, в которой городские интеллектуалы видели базовую идеологию нового сада.
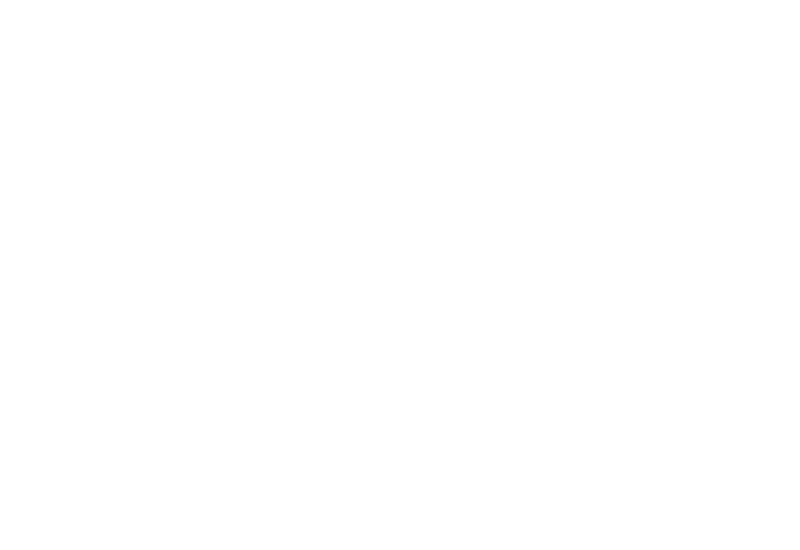
Рис. 4. Ручей в саду Сэнган-эн, преф. Кагосима, 1658 г.
Появление ручья в саду совершенно преобразует пространство сада, делает его более сложным и интересным по сравнению с теми садами, которые сложились к тому времени в Японии. Воспроизведение графики природного ручья сопряжено с необходимостью изображения сложного рельефа его поймы, что, в свою очередь, приводит к появлению в саду сложной холмистой поверхности, изобретению других форм трехмерной геопластики. Наличие ручья в саду определяло также более свободную, чем прежде, структуру усадебного сада. Такой сад стало лучше рассматривать не только из дома, как это было раньше, но и извне, в процессе движения.
Изучение геопластики русла ручья во всем многообразии поворотов, линз стариц, островов, притоков и самого устья, возможно, доставит много трудностей, но также принесет немалую пользу для практикующих любителей и профессиональных строителей японских садов.
Изучение геопластики русла ручья во всем многообразии поворотов, линз стариц, островов, притоков и самого устья, возможно, доставит много трудностей, но также принесет немалую пользу для практикующих любителей и профессиональных строителей японских садов.
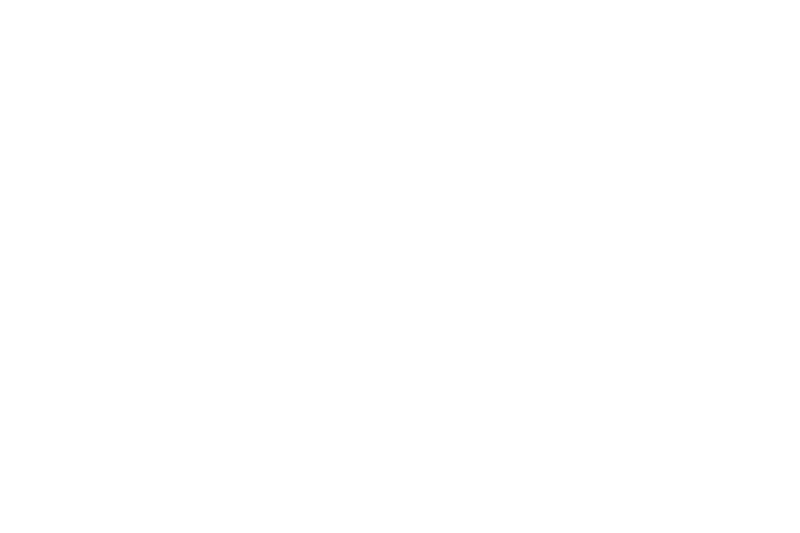
Рис. 5. Ручей в саду усадьбы клана Отомо, преф. Оита
Начиная с XVII века по японским садам начинают гулять и рассматривать сад с разных точек обзора, чего не было с древних времен Хэйана. Этому способствовал переход к иному построению дома в стиле сукия-дзукури (или просто сукия). Дом в этом стиле представлял собой набор жилых помещений, выстроенных в форме ломаной кривой линии. Каждое помещение имело отдельный выход в сад, общение с которым благодаря этому изменилось. Особенно важно было то, что такая структура дома прекрасно подходила к произвольному расположению ручья в пределах усадьбы. Своей гибкой формой дом мог быть приспособлен также к любой конфигурации участка и к любым идеям автора. Ландшафтный архитектор получил возможность свободно изменять весь проект в целом и детали проекта в зависимости от конкретных условий и обстоятельств.
Архитектура сукия-дзукури быстро завоевала симпатии публики не только потому, что она была так же хорошо приспособлена к общению с садом, как и для нужд повседневного быта. Была еще одна очень важная причина: в таком доме имелось специальное помещение для чайных церемоний, в том числе многолюдных, в стиле сэнтя-до. Поэтому архитектура сукия-дзукури стала называться чайной, хотя при этом она имела уже мало общего с прежней чайной архитектурой в виде уединенных отшельнических домиков для проведения церемоний в духе тяною, которая была так характерна для дзэнских садов. Встроенная в жилой дом, она должна была стать и стала гораздо более мирской по сравнению с тем сакральным обликом и смыслом, который сопровождал прежнюю чайную архитектуру при дзэнском монастыре.
Наряду с домом большое внимание уделяется устройству специальных, отдельно расположенных мест для чаепития и наблюдения за природой. Обеспечение человеку возможности общения с природой во время чаепития становится важной особенностью садовой архитектуры, которая радикально меняется в это время, приспосабливаясь к этому требованию. Она становится все более открытой, в стенах появляются большие проемы, большие окна, окна приобретают форму круга, тыквы или других излюбленных конфигураций.
В этом контексте иначе, чем прежде, развивалась архитектура чайного домика. Постепенно вместе с закрытой структурой дзэнского чайного сада в прошлое уходит и чайный домик типа соан, сделанный в стиле горной хижины. Чайный домик становится больше по размеру и все более открытым миру. В его стенах появляется много окон, они становятся больше и меняют свою форму. Окна позволяют видеть окружающий сад, чайный домик наполняется светом. Изменяется положение чайного домика в пространстве сада. Его стараются поместить около воды, прежде всего у ручья.
Архитектура сукия-дзукури быстро завоевала симпатии публики не только потому, что она была так же хорошо приспособлена к общению с садом, как и для нужд повседневного быта. Была еще одна очень важная причина: в таком доме имелось специальное помещение для чайных церемоний, в том числе многолюдных, в стиле сэнтя-до. Поэтому архитектура сукия-дзукури стала называться чайной, хотя при этом она имела уже мало общего с прежней чайной архитектурой в виде уединенных отшельнических домиков для проведения церемоний в духе тяною, которая была так характерна для дзэнских садов. Встроенная в жилой дом, она должна была стать и стала гораздо более мирской по сравнению с тем сакральным обликом и смыслом, который сопровождал прежнюю чайную архитектуру при дзэнском монастыре.
Наряду с домом большое внимание уделяется устройству специальных, отдельно расположенных мест для чаепития и наблюдения за природой. Обеспечение человеку возможности общения с природой во время чаепития становится важной особенностью садовой архитектуры, которая радикально меняется в это время, приспосабливаясь к этому требованию. Она становится все более открытой, в стенах появляются большие проемы, большие окна, окна приобретают форму круга, тыквы или других излюбленных конфигураций.
В этом контексте иначе, чем прежде, развивалась архитектура чайного домика. Постепенно вместе с закрытой структурой дзэнского чайного сада в прошлое уходит и чайный домик типа соан, сделанный в стиле горной хижины. Чайный домик становится больше по размеру и все более открытым миру. В его стенах появляется много окон, они становятся больше и меняют свою форму. Окна позволяют видеть окружающий сад, чайный домик наполняется светом. Изменяется положение чайного домика в пространстве сада. Его стараются поместить около воды, прежде всего у ручья.
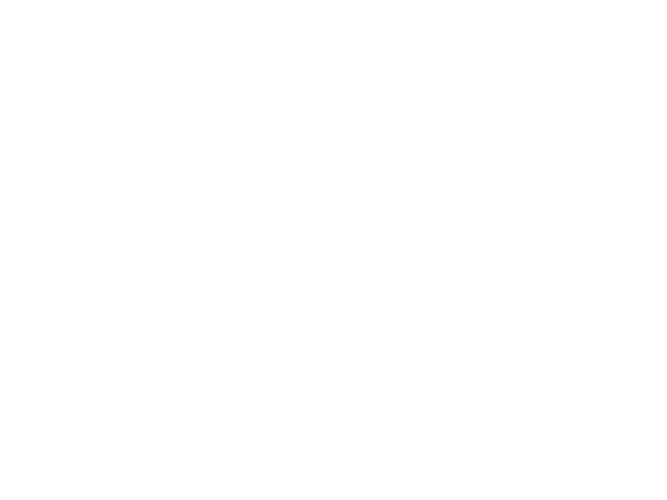
Рис. 6. Чайный домик с круглым окном Ихо-ан в монастыре Кодай-дзи, Киото
Чайный домик предназначен теперь не только для чайной церемонии. Сам процесс чаепития меняется, он превращается в способ общения, даже наслаждения окружающей природой. Поэтому меняется архитектура чайного домика, кроме открытых проемов и больших окон там появляется балкончик, специально предназначенный для этой цели.
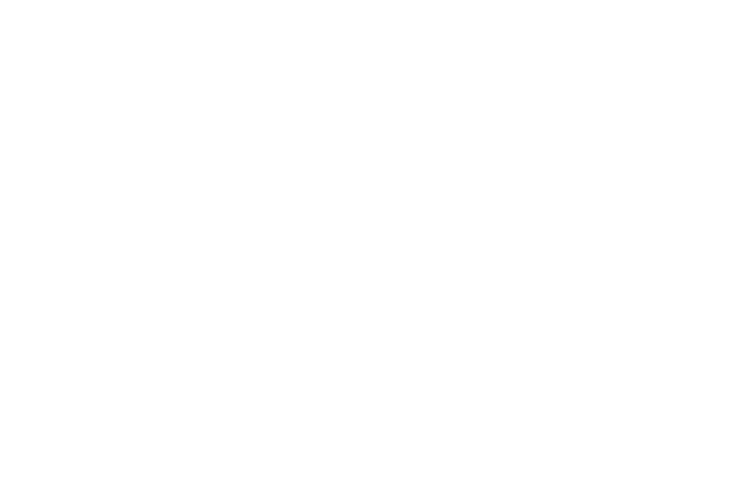
Рис. 7. Чайный домик с балконом. Сад Мурин-ан, Киото
Дизайнеры стараются разместить чайный домик в самых выгодных местах с тем, чтобы превратить его в главную видовую точку (см. рис. 8), и он сам превращается нередко в точку обзора сада (см. рис. 9).
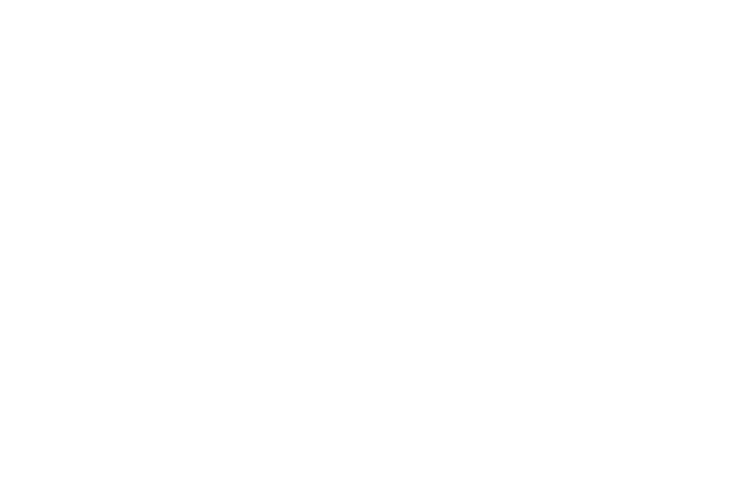
Рис. 8. Чайный домик в усадьбе Гарю Сансо (о. Сикоку)
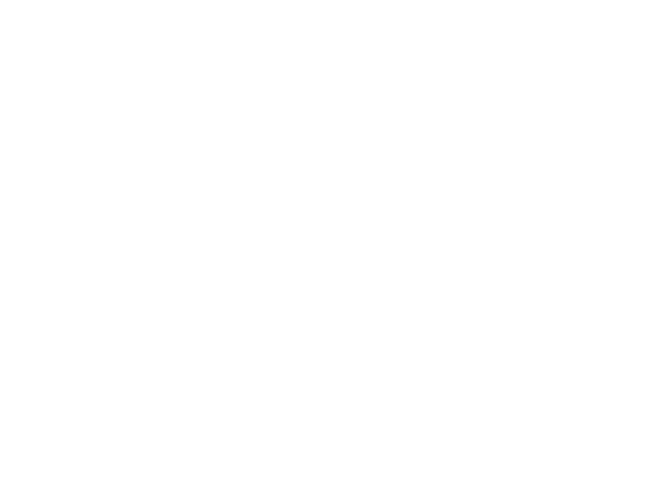
Рис. 9. Чайный домик и чайная беседка. Сад Ракусан-эн, преф. Гумма
С переходом на чайную культуру сэнтя-до архитектура японского сада обогатилась разнообразными беседками, при этом фантазию архитектора направляли лишь пристрастия хозяина сада. Иногда это были павильоны в китайском стиле с типичными для них ажурными ограждениями. Бывало так, что приверженцы буддийской идеологии заказывали беседки, которые в плане имели форму свастики.
Со временем все чаще предпочтение стали отдавать совсем простым беседкам в так называемом стиле адзумая (букв. «восточный домик»). Ее открытая на все стороны конструкция покоилась всего на четырех столбах с тем, чтобы люди могли практически все время находиться в саду. Все, что напоминало в этом сооружении об отшельническом чайном домике прошлых лет, сводилось к простой крытой тростником четырехскатной крыше. Такая беседка, имея китайские корни, впоследствии стала очень популярна не только в японском саду, она вполне адекватно воспринимается даже в чужой обстановке другой страны.
Со временем все чаще предпочтение стали отдавать совсем простым беседкам в так называемом стиле адзумая (букв. «восточный домик»). Ее открытая на все стороны конструкция покоилась всего на четырех столбах с тем, чтобы люди могли практически все время находиться в саду. Все, что напоминало в этом сооружении об отшельническом чайном домике прошлых лет, сводилось к простой крытой тростником четырехскатной крыше. Такая беседка, имея китайские корни, впоследствии стала очень популярна не только в японском саду, она вполне адекватно воспринимается даже в чужой обстановке другой страны.
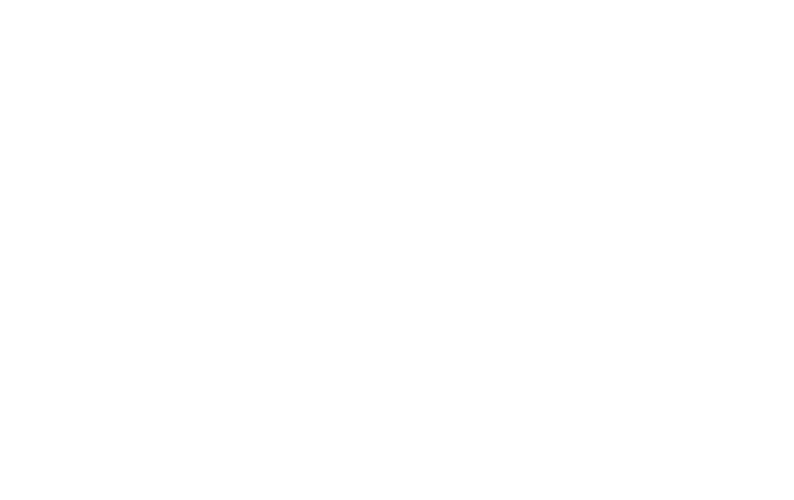
Рис. 10. Беседка в стиле адзумая в саду Ёко-эн, храм Тайдзо-ин, монастырь Мёсин-дзи, Киото
К началу эпохи модернизации, начавшейся в Японии с реставрации императорской власти в 1868 году, японскими интеллектуалами был накоплен уже довольно значительный опыт в области устройства усадебного сада. В эпоху Мэйдзи (1868–1912) это направление садового искусства вновь подверглось влияниям извне, на этот раз со стороны Запада. В процессе модернизации Японии активное участие принимали иностранные специалисты, а также японские деятели из числа приверженцев западной культуры. Внимание к западному пониманию проблем эстетики среди японских художников и ландшафтных дизайнеров было очень большим, но большими были и разочарования.
Вместе с тем, часть художественной элиты страны при всей своей озабоченности конфуцианским пониманием красоты, как неотъемлемой части высоко морального человека, который думает о материальных благах в последнюю очередь, была очень сильно ориентирована на получение с Запада максимума полезного для своей нации. Даже то обстоятельство, что западная эстетика была тесно связана с понятием утилитарности, не сильно ее шокировало. Не случайно автор первой в Японии теории эстетики Ниси Аманэ (1829–1897) при переводе трактата англичанина Дж. Ст. Милля (1806–1873) «Утилитаризм» видел свою цель именно в том, чтобы превратить науку об эстетике в инструмент, пригодный для достижения практических результатов в модернизации страны [9, с. 35].
Проблема для японцев того времени была скорее в другом – большинство не принимало тех идей индивидуализма, с которыми к ним пришли философы и практики с Запада. Но и в этом японские интеллектуалы, имея за спиной большой опыт борьбы с сёгунатом за свободу творчества, воспринимали западную идею о важности «индивидуальной оригинальности» более лояльно, чем многие в своей коллективистской стране. Поэтому иностранное влияние оказалось для них не только не разрушительным, но, даже, напротив, скорее благотворным. По словам исследователя, «обозначилась идея готовности правящей элиты ослабить конфуцианские вожжи и признать за сферой личных эмоций человека не только право на существование, но и право конструировать новый образ страны, быть важным элементом становления новой культурной идентичности японца в эпоху Мэйдзи». [3, с. 52–63].
Ярким примером этого служит сад Мурин-ан, который появился в самом конце XIX века во владениях тогдашнего премьер-министра Японии, маршала сухопутных войск Ямагаты Аритомо (1838–1922). Он относился к новому поколению интеллектуалов, которые участвовали в свержении сёгуната Токугавы, и слыл западником, «человеком со вкусом» (сукися) и ценителем прекрасного. Случилось так, что под непосредственным началом Ямагаты Аритомо оказался Ниси Аманэ, который в то время служил в Военном ведомстве правительства Мэйдзи и которого маршал высоко ценил за деловые качества. Как высоко образованный человек Ямагата был знаком с новыми веяниями в японской культуре, в том числе не понаслышке знал теорию своего подчиненного о красоте, как ее понимали на Западе [6, с. 33–43]. В 1878 году Ниси Аманэ читал лекцию перед членами императорской семьи, где присутствовало также все высшее чиновничество [10, с. 89–96]. Ямагата Аритомо видимо уже тогда был впечатлен рассказами философа о принципах западной, в частности английской, эстетики. Идеи английской школы ландшафтного дизайна, как отметят впоследствии исследователи, сильно повлияли на концепцию его сада в Мурин-ан.
Известно, что общую концепцию своего сада Ямагата Аритомо создал сам в духе чайной культуры сэнтя-до, которую продолжали исповедовать тогда многие японские интеллектуалы. В качестве того, кто должен был спроектировать сад, Ямагата выбрал малоизвестного в то время ландшафтного дизайнера Огаву Дзихэя (1860–1933), который оказался талантливым художником и прекрасно понял, каким должен был стать такой сад. Выбор участка для сада определили свойства окружающей природы, и в первую очередь наличие великолепных видов гор Хигасияма, в которые как бы врезался острым углом треугольник выбранного участка.
Вместе с тем, часть художественной элиты страны при всей своей озабоченности конфуцианским пониманием красоты, как неотъемлемой части высоко морального человека, который думает о материальных благах в последнюю очередь, была очень сильно ориентирована на получение с Запада максимума полезного для своей нации. Даже то обстоятельство, что западная эстетика была тесно связана с понятием утилитарности, не сильно ее шокировало. Не случайно автор первой в Японии теории эстетики Ниси Аманэ (1829–1897) при переводе трактата англичанина Дж. Ст. Милля (1806–1873) «Утилитаризм» видел свою цель именно в том, чтобы превратить науку об эстетике в инструмент, пригодный для достижения практических результатов в модернизации страны [9, с. 35].
Проблема для японцев того времени была скорее в другом – большинство не принимало тех идей индивидуализма, с которыми к ним пришли философы и практики с Запада. Но и в этом японские интеллектуалы, имея за спиной большой опыт борьбы с сёгунатом за свободу творчества, воспринимали западную идею о важности «индивидуальной оригинальности» более лояльно, чем многие в своей коллективистской стране. Поэтому иностранное влияние оказалось для них не только не разрушительным, но, даже, напротив, скорее благотворным. По словам исследователя, «обозначилась идея готовности правящей элиты ослабить конфуцианские вожжи и признать за сферой личных эмоций человека не только право на существование, но и право конструировать новый образ страны, быть важным элементом становления новой культурной идентичности японца в эпоху Мэйдзи». [3, с. 52–63].
Ярким примером этого служит сад Мурин-ан, который появился в самом конце XIX века во владениях тогдашнего премьер-министра Японии, маршала сухопутных войск Ямагаты Аритомо (1838–1922). Он относился к новому поколению интеллектуалов, которые участвовали в свержении сёгуната Токугавы, и слыл западником, «человеком со вкусом» (сукися) и ценителем прекрасного. Случилось так, что под непосредственным началом Ямагаты Аритомо оказался Ниси Аманэ, который в то время служил в Военном ведомстве правительства Мэйдзи и которого маршал высоко ценил за деловые качества. Как высоко образованный человек Ямагата был знаком с новыми веяниями в японской культуре, в том числе не понаслышке знал теорию своего подчиненного о красоте, как ее понимали на Западе [6, с. 33–43]. В 1878 году Ниси Аманэ читал лекцию перед членами императорской семьи, где присутствовало также все высшее чиновничество [10, с. 89–96]. Ямагата Аритомо видимо уже тогда был впечатлен рассказами философа о принципах западной, в частности английской, эстетики. Идеи английской школы ландшафтного дизайна, как отметят впоследствии исследователи, сильно повлияли на концепцию его сада в Мурин-ан.
Известно, что общую концепцию своего сада Ямагата Аритомо создал сам в духе чайной культуры сэнтя-до, которую продолжали исповедовать тогда многие японские интеллектуалы. В качестве того, кто должен был спроектировать сад, Ямагата выбрал малоизвестного в то время ландшафтного дизайнера Огаву Дзихэя (1860–1933), который оказался талантливым художником и прекрасно понял, каким должен был стать такой сад. Выбор участка для сада определили свойства окружающей природы, и в первую очередь наличие великолепных видов гор Хигасияма, в которые как бы врезался острым углом треугольник выбранного участка.
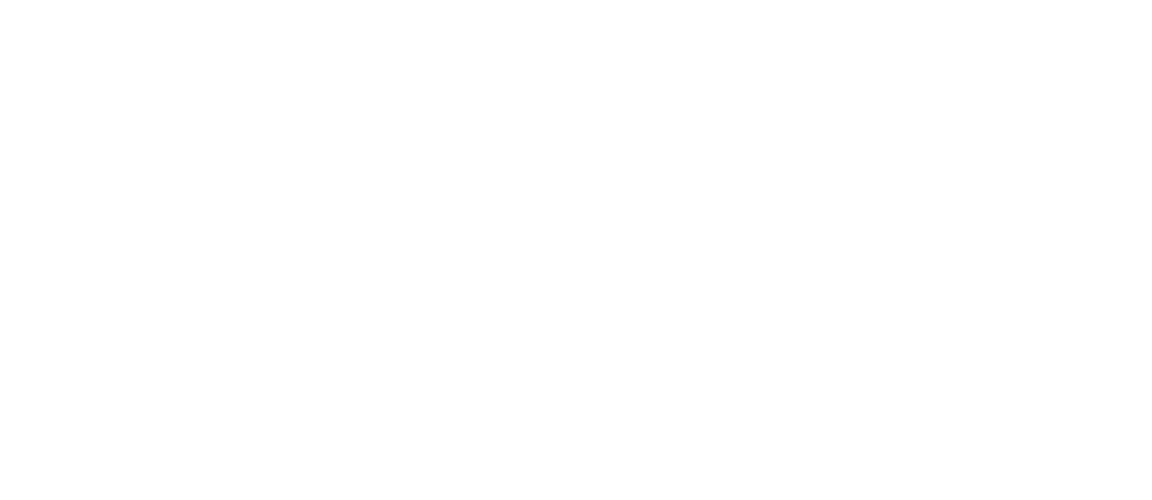
Рис. 11. План сада Мурин-ан, Киото
Эту видневшуюся вдали картину гор дизайнер соединил с садом таким образом, что, как отмечали современники, они составили друг с другом единое целое [15, с. 383]. В результате такого слияния довольно небольшие фактические размеры участка зрительно увеличивались многократно. Открытое пространство в центре сада дополнительно увеличивало его настолько, что создавалось впечатление, будто это уже и не сад вовсе, а сама природа вторглась в пределы человеческого обитания.
Наличие пресной воды в садах, проектируемых на основах чайной культуры сэнтя-до, считалось обязательным условием. И в этом отношении авторам сада Мурин-ан повезло. Именно в период его создания власти Киото, озабоченные длительным упадком экономики города, который нарастал в связи с переносом столицы в Токио, предпринимают ряд мер по его преодолению. В частности, губернатор решил воплотить в жизнь идею, которой на тот момент было уже несколько веков, – проложить канал от огромного озера Бива до центра Киото, чтобы обеспечить город водой и электричеством, а также наладить его транспортные связи с другими частями страны. Смелый проект удался, как минимум, в первой его части: город получил долгожданную воду. Наряду с возрождением тех отраслей промышленности, которые остро нуждались в ней, новый толчок в развитии получило местное садоводство. В Киото появляется целый ряд усадеб, сады которых были спроектированы гениальным Огавой Дзихэем с использованием вод канала от озера. Первым среди них был Мурин-ан.
Наличие пресной воды в садах, проектируемых на основах чайной культуры сэнтя-до, считалось обязательным условием. И в этом отношении авторам сада Мурин-ан повезло. Именно в период его создания власти Киото, озабоченные длительным упадком экономики города, который нарастал в связи с переносом столицы в Токио, предпринимают ряд мер по его преодолению. В частности, губернатор решил воплотить в жизнь идею, которой на тот момент было уже несколько веков, – проложить канал от огромного озера Бива до центра Киото, чтобы обеспечить город водой и электричеством, а также наладить его транспортные связи с другими частями страны. Смелый проект удался, как минимум, в первой его части: город получил долгожданную воду. Наряду с возрождением тех отраслей промышленности, которые остро нуждались в ней, новый толчок в развитии получило местное садоводство. В Киото появляется целый ряд усадеб, сады которых были спроектированы гениальным Огавой Дзихэем с использованием вод канала от озера. Первым среди них был Мурин-ан.
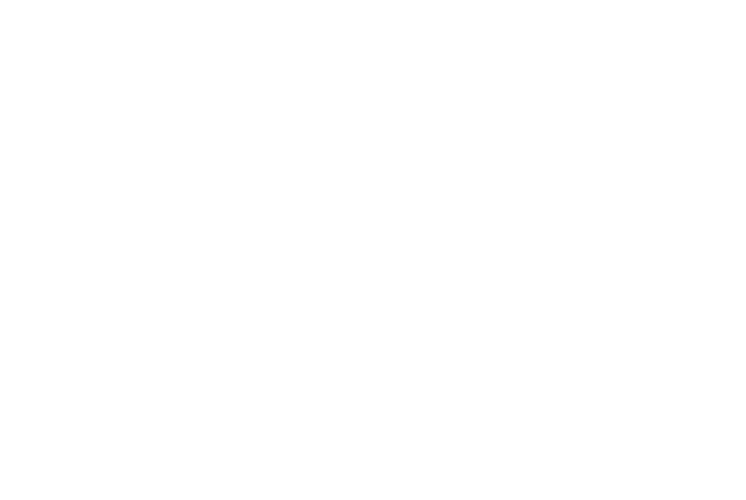
Рис. 12. Ручей в саду Мурин-ан, Киото
Ручей в саду Мурин-ан стал организующим началом для всей его структуры. Его сложная конфигурация определила расположение и сочетание основных композиционных частей сада. В своей центральной части поверхность поймы покрыта дорожечной сетью, сформированной среди холмов и впадин, имитирующих геопластику естественных ландшафтов. Ручей подчиняет себе общую концепцию сети дорожек и построения видовых точек как на открытых участках поймы, так и на периферии сада. Графика ручья при всей своей разветвленности исполнена таким образом, что взгляд, направленный на центральную его часть, совпадает с главной вистой сада, представленной импортированным видом гор Хигасияма. Все это вместе способствовало созданию иллюзии присутствия человека в условиях реальной природной среды.
По признанию многих японских и зарубежных специалистов, сад Мурин-ан стал первым в стране по-настоящему современным произведением садового искусства и оказал огромное влияние на последующее развитие садов в Японии в ХХ веке. Многие относят это влияние на счет опыта английской школы ландшафтного дизайна, который был усвоен авторами сада [12, с. 53–54; 7, с. 167–169]. В частности, обращают внимание на то, как был устроен обширный газон с тропинками, предназначенными для гуляния. Так, по словам Амасаки Хиромасы, специалиста по садам Огавы Дзихэя, «открытый и яркий газон, напоминающий сельский пейзаж, вероятно, перекликался в уме Ямагаты Аритомо, который был очень хорошо знаком с Западом, с английским ландшафтным садом» [14, с. 216]. Это действительно кардинальным образом отличало такой сад от традиционного японского сада, гулять по которому давно уже никому не приходило в голову. Раньше такое «пустое» пространство считалось сакральным, общаться с ним можно было исключительно сидя, не выходя из помещения.
Так называемая «пустотность» японского сада, которая соответствует общему эстетическому принципу, выработанному японской культурой в течение многих веков, представляет собой одно из важнейших отличий японского сада от западного. Известно, что в традиционной китайской и японской живописи тушью отдельные участки бумаги или шелка остаются нетронутыми, создавая «пустоту».
В традиции японской эстетики за понятием такой пустоты закрепился термин «ма», который не поддается дословному переводу, но требует определенных разъяснений. Пустоту можно представить в виде некоторой паузы, которую держит художник. Неясная и состоящая, на первый взгляд, как бы из ничего, она при этом содержат в себе ожидание определенности, словно ответа на незаданный вопрос. Чем откровеннее пустота, тем многостороннее, вариативнее ее субъективное восприятие, тем шире возможности сотворчества участников такого диалога, художника со своим зрителем (или слушателем, если речь идет, например, о музыке). При этом восприятие того, что заложено в этой паузе, полностью лежит на совести воспринимающего субъекта, а художник, выступает в данном случае только в роли провокатора. Такие «паузы» имеют большой мировоззренческий смысл, они соединяют изображения объектов материальной действительности в ясно ощущаемую целостность [1, с. 5].
В саду применение такого приема вызывает чувство единства пространства и человека, впечатление включенности во внешний мир и гармонии с ним. Происходит нечто подобное тому, с чем мы сталкиваемся, рассматривая китайские картины, в которых пустое пространство требует осмысления, – наше подсознание достраивает, воображение дорисовывает то, что не видит глаз. Так, в саду Мурин-ан «пустота» в центре сада, окруженная лесистыми участками по периметру и горами вдали за пределами сада, воспринимается как прорыв в бескрайний мир природы, как посредник, способствующий свершению акта слияния человека едва ли не со всей вселенной.
Исследователи задаются вопросом – «действительно ли принцип пустоты «ма» является привилегией лишь Японии, ее, так сказать, монополией в мировой культуре?» [2, с. 37–46]. В настоящее время этот вопрос носит уже, скорее, риторический характер. Проблема пустоты как в эстетическом плане, так и сугубо с практической стороны становится актуальной и для западного человека. Эта проблема активно обсуждается в научной и художественной среде. И все же различия в отношении к пустоте на Западе и на Востоке существуют, что в сфере ландшафтного дизайна оказалось немаловажным обстоятельством.
Традиционно открытое пространство в японском саду приравнивалось к пустому, потому что оно всегда было сакральным. Общение с сакральной пустотой принципиально отличается от общения западного зрителя просто с открытым пространством сада. Для человека с западным менталитетом открытое пространство равноценно приглашению к его «употреблению». Для японца – священное по определению, оно не может стать утилитарным. Надо видеть, с каким ужасом реагирует японский монах на попытки какого-нибудь незадачливого туриста пройтись по заветному монастырскому садику.
Появление пейзажного сада с его принципиально новой идеологией гедонизма стало серьезным испытанием для японского менталитета. Утилитарное отношение к прежде сакральному «ма» повлекло за собой иное отношение дизайнера к пространству сада в целом, что отразилось на перестройке всей его структуры и взаимоотношения с ней. В известном смысле, японской зритель оказался перед проблемой выбора: что для него важнее, удовлетворять ли свои здешние желания, или устремиться к божественному. Любопытно наблюдать за тем, как иной японец выбирает последнее. Ему, которому уже как минимум целый век «разрешено» гулять по пейзажному саду, вдруг приходит в голову пообщаться с ним сидя, то ли разглядывая что-то там, то ли постигая нечто в самом себе.
Но если японскому зрителю бывает не так уж сложно сдержать свое желание пройтись по саду, то нас открытое пространство гораздо сильнее искушает прогуляться. Мы стремимся как можно плотнее физически заполнить его собой. Не говоря о дорожках, которые уж точно должны быть использованы в полной мере, но и сам газон, скорее, служит площадкой, где можно или бассейн разместить, или песочницу устроить. Идея остаться наедине с пустотой нас не устраивает, она как будто страшит, что представляет собой одну из наиболее трудно разрешимых проблем для западного любителя японских садов с иной, чем у японца, ментальностью.
Поэтому нельзя пройти мимо остроумного решения этой проблемы, недавно предложенного в одном из российских проектов японского сада с использованием больших массивов кустарников, стриженных на японский манер.
По признанию многих японских и зарубежных специалистов, сад Мурин-ан стал первым в стране по-настоящему современным произведением садового искусства и оказал огромное влияние на последующее развитие садов в Японии в ХХ веке. Многие относят это влияние на счет опыта английской школы ландшафтного дизайна, который был усвоен авторами сада [12, с. 53–54; 7, с. 167–169]. В частности, обращают внимание на то, как был устроен обширный газон с тропинками, предназначенными для гуляния. Так, по словам Амасаки Хиромасы, специалиста по садам Огавы Дзихэя, «открытый и яркий газон, напоминающий сельский пейзаж, вероятно, перекликался в уме Ямагаты Аритомо, который был очень хорошо знаком с Западом, с английским ландшафтным садом» [14, с. 216]. Это действительно кардинальным образом отличало такой сад от традиционного японского сада, гулять по которому давно уже никому не приходило в голову. Раньше такое «пустое» пространство считалось сакральным, общаться с ним можно было исключительно сидя, не выходя из помещения.
Так называемая «пустотность» японского сада, которая соответствует общему эстетическому принципу, выработанному японской культурой в течение многих веков, представляет собой одно из важнейших отличий японского сада от западного. Известно, что в традиционной китайской и японской живописи тушью отдельные участки бумаги или шелка остаются нетронутыми, создавая «пустоту».
В традиции японской эстетики за понятием такой пустоты закрепился термин «ма», который не поддается дословному переводу, но требует определенных разъяснений. Пустоту можно представить в виде некоторой паузы, которую держит художник. Неясная и состоящая, на первый взгляд, как бы из ничего, она при этом содержат в себе ожидание определенности, словно ответа на незаданный вопрос. Чем откровеннее пустота, тем многостороннее, вариативнее ее субъективное восприятие, тем шире возможности сотворчества участников такого диалога, художника со своим зрителем (или слушателем, если речь идет, например, о музыке). При этом восприятие того, что заложено в этой паузе, полностью лежит на совести воспринимающего субъекта, а художник, выступает в данном случае только в роли провокатора. Такие «паузы» имеют большой мировоззренческий смысл, они соединяют изображения объектов материальной действительности в ясно ощущаемую целостность [1, с. 5].
В саду применение такого приема вызывает чувство единства пространства и человека, впечатление включенности во внешний мир и гармонии с ним. Происходит нечто подобное тому, с чем мы сталкиваемся, рассматривая китайские картины, в которых пустое пространство требует осмысления, – наше подсознание достраивает, воображение дорисовывает то, что не видит глаз. Так, в саду Мурин-ан «пустота» в центре сада, окруженная лесистыми участками по периметру и горами вдали за пределами сада, воспринимается как прорыв в бескрайний мир природы, как посредник, способствующий свершению акта слияния человека едва ли не со всей вселенной.
Исследователи задаются вопросом – «действительно ли принцип пустоты «ма» является привилегией лишь Японии, ее, так сказать, монополией в мировой культуре?» [2, с. 37–46]. В настоящее время этот вопрос носит уже, скорее, риторический характер. Проблема пустоты как в эстетическом плане, так и сугубо с практической стороны становится актуальной и для западного человека. Эта проблема активно обсуждается в научной и художественной среде. И все же различия в отношении к пустоте на Западе и на Востоке существуют, что в сфере ландшафтного дизайна оказалось немаловажным обстоятельством.
Традиционно открытое пространство в японском саду приравнивалось к пустому, потому что оно всегда было сакральным. Общение с сакральной пустотой принципиально отличается от общения западного зрителя просто с открытым пространством сада. Для человека с западным менталитетом открытое пространство равноценно приглашению к его «употреблению». Для японца – священное по определению, оно не может стать утилитарным. Надо видеть, с каким ужасом реагирует японский монах на попытки какого-нибудь незадачливого туриста пройтись по заветному монастырскому садику.
Появление пейзажного сада с его принципиально новой идеологией гедонизма стало серьезным испытанием для японского менталитета. Утилитарное отношение к прежде сакральному «ма» повлекло за собой иное отношение дизайнера к пространству сада в целом, что отразилось на перестройке всей его структуры и взаимоотношения с ней. В известном смысле, японской зритель оказался перед проблемой выбора: что для него важнее, удовлетворять ли свои здешние желания, или устремиться к божественному. Любопытно наблюдать за тем, как иной японец выбирает последнее. Ему, которому уже как минимум целый век «разрешено» гулять по пейзажному саду, вдруг приходит в голову пообщаться с ним сидя, то ли разглядывая что-то там, то ли постигая нечто в самом себе.
Но если японскому зрителю бывает не так уж сложно сдержать свое желание пройтись по саду, то нас открытое пространство гораздо сильнее искушает прогуляться. Мы стремимся как можно плотнее физически заполнить его собой. Не говоря о дорожках, которые уж точно должны быть использованы в полной мере, но и сам газон, скорее, служит площадкой, где можно или бассейн разместить, или песочницу устроить. Идея остаться наедине с пустотой нас не устраивает, она как будто страшит, что представляет собой одну из наиболее трудно разрешимых проблем для западного любителя японских садов с иной, чем у японца, ментальностью.
Поэтому нельзя пройти мимо остроумного решения этой проблемы, недавно предложенного в одном из российских проектов японского сада с использованием больших массивов кустарников, стриженных на японский манер.
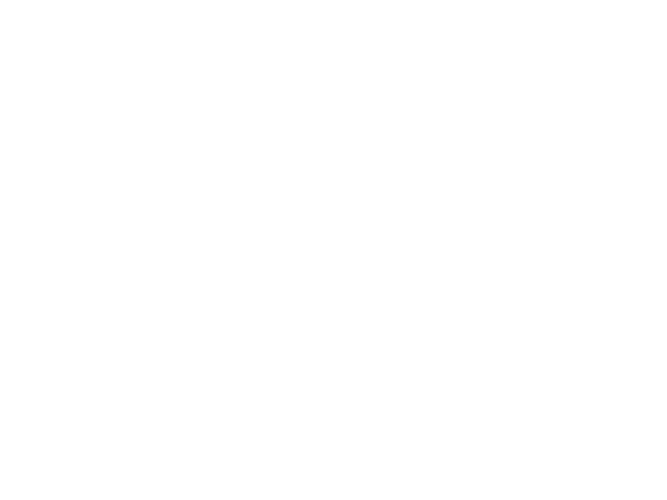
Рис. 13. Открытое пространство в саду Елены Асташкиной
Получившийся монотонный покров, с одной стороны, создает здесь вполне приемлемый аналог пустого пространства, пригодного как для увеличения размеров сада, так и для обеспечения желаемого вида. Вместе с тем, заполнив это место кустарником и ограничив физическую его доступность для гуляния, автор стимулирует зрителя к иному характеру общения с садом, предлагает ему задержаться здесь, посидеть, поразмышлять, включиться в мир природы как таковой.
Японские усадебные сады городских интеллектуалов обладают особым потенциалом с точки зрения приживаемости за рубежом по нескольким причинам. Прежде всего, следует еще раз подчеркнуть, что это не абстрактные, и часто даже не символические сады, с образом которых прежде всего ассоциируется само название «японский сад». Это – в первую очередь, пейзажный сад. И хотя никакие аутентичные особенности и детали традиционного японского сада (например, природный камень, фонари или те же чайные домики и беседки) не противоречат его облику, как и нет в нем принципиального противостояния идеям символизма, в то же время нет здесь и того нажима на эти национальные черты, которые одни, будучи перенесены на чужую почву, рискуют внести когнитивный диссонанс в западное восприятие всего сада и вызвать едва ли не отторжение. Напротив, ассоциирование усадебного сада городского японского интеллектуала с пейзажным садом вызывает в нас знакомый отклик психологического комфорта, ибо такая эстетика очень близко подходит к некоторому общему пониманию красоты.
Воспроизведение такого японского сада предъявляет определенные требования, прежде всего – осмысления и проникновения в суть самих природных явлений и понимания законов их изображения. Соединение такого подхода с осознанием глубинных причин, которые дали японскому автору повод изобразить в своем саду то или иное природное явление, способно привести к замечательному эффекту. К счастью, именно таким образом воспринимают некоторые наши практики японский опыт воспроизведения пейзажной картины, и у нас уже появились обнадеживающие результаты. В частности, заслуживают внимания попытки создания сада с ручьем в сочетании с характерной геопластикой его поймы.
Японские усадебные сады городских интеллектуалов обладают особым потенциалом с точки зрения приживаемости за рубежом по нескольким причинам. Прежде всего, следует еще раз подчеркнуть, что это не абстрактные, и часто даже не символические сады, с образом которых прежде всего ассоциируется само название «японский сад». Это – в первую очередь, пейзажный сад. И хотя никакие аутентичные особенности и детали традиционного японского сада (например, природный камень, фонари или те же чайные домики и беседки) не противоречат его облику, как и нет в нем принципиального противостояния идеям символизма, в то же время нет здесь и того нажима на эти национальные черты, которые одни, будучи перенесены на чужую почву, рискуют внести когнитивный диссонанс в западное восприятие всего сада и вызвать едва ли не отторжение. Напротив, ассоциирование усадебного сада городского японского интеллектуала с пейзажным садом вызывает в нас знакомый отклик психологического комфорта, ибо такая эстетика очень близко подходит к некоторому общему пониманию красоты.
Воспроизведение такого японского сада предъявляет определенные требования, прежде всего – осмысления и проникновения в суть самих природных явлений и понимания законов их изображения. Соединение такого подхода с осознанием глубинных причин, которые дали японскому автору повод изобразить в своем саду то или иное природное явление, способно привести к замечательному эффекту. К счастью, именно таким образом воспринимают некоторые наши практики японский опыт воспроизведения пейзажной картины, и у нас уже появились обнадеживающие результаты. В частности, заслуживают внимания попытки создания сада с ручьем в сочетании с характерной геопластикой его поймы.
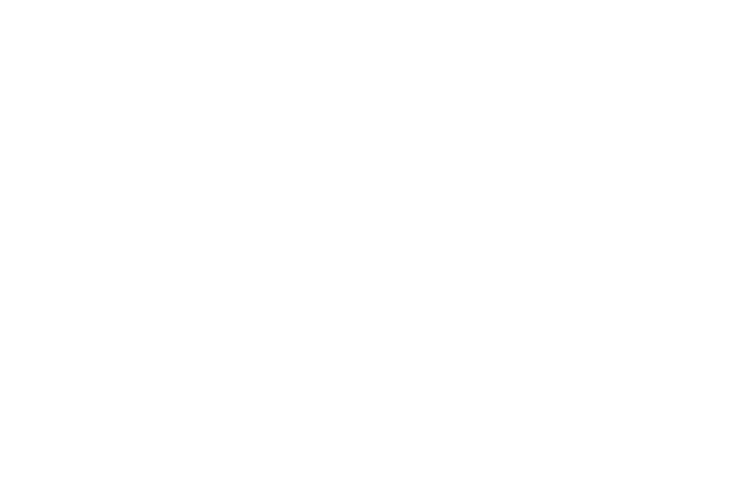
Рис. 14. Японский сад с ручьем в стилистике чайной культуры сэнтя-до. Проект Ирины Андриановой.
На протяжении своей истории японские сады испытали на себе многие иностранные влияния, причем не только со стороны Китая, но начиная с конца XIX века – со стороны западной мысли. Это привело к тому, что появились элементы, присущие садам с иной эстетикой, с иным ее содержанием. Вместе с тем, в частности, чайные сады смогли при этом не утратить своей национальной идентичности. Вне зависимости от того, насколько интенсивно такой сад наполнен специфичной фактурой, характерной для самой Японии, сочетание признаков японской сакральности и так называемой «пустотности» пространства сада с его современной утилитарностью, на наш взгляд, содержит в себе уникальную возможность быть понятной и близкой сразу для обоих типов ментальности – восточной и западной. Это выделило такой сад в самостоятельное направление развития современного японского ландшафтного дизайна, которое может оказаться перспективным с точки зрения его успешного воплощения в России.
- Власов, В. Г. Эстетика пустоты в новейшей архитектуре и дизайне (философский аспект) // Электронный научный журнал «Архитектон: известия вузов». УралГАХУ, 2015, № 52. С. 3–12. URL: https://archvuz.ru/2015_4/1/. Дата обращения: 26.11. 2024.
- Скворцова, Е. Л. Телесность и пустотность как отличительные особенности традиционной японской эстетики // Вопросы философии. 2011, № 12. С. 37–46.
- Скворцова, Е. Л. Япония: кризис культурной идентичности при встрече с западной цивилизацией // Вопросы философии. 2012, № 7. С. 52–63.
- Соколов, Б. М. Британская теория пейзажного садоводства и ее место в культуре русского Просвещения // Философский век. Альманах. Вып. 20. Россия и Британия в эпоху Просвещения: Опыт философской и культурной компаративистики. Часть 2 / Отв. редакторы Т.В. Артемьева, М.И. Микешин. СПб.: Санкт-Петербургский Центр истории идей, 2002. 294 с.
- Beerens, A. Friends, Acquaintances, Pupils and Patrons: Japanese Intellectual Life in the Late Eighteenth Century: A Prosopographical Approach. Leiden University Press, 2006. 320 p.
- Conder, J. Landscape Gardening in Japan. With the Supplement of 40 Plates. Dover Publications, Inc., 1964. 349 p.
- Hasunuma, K. Nishi Amane and G. H. Lewes // Kobe University law review, 1981, No.15. Pp. 33–43.
- Literati and Society in Early Modern Japan: An EMJ Panel Discussion AAS Annual Meeting, Marriott Wardman Park, Washington DC, April 4, 2002. Early Modern Japan, Fall, 2002. Pp. 75–78.
- Marra, M. Between Aesthetics and Literature. Brill Academic Publishers, Lieden, 2010. 505 p.
- Marra, M, ed. Japanese Hermeneutics: Current Debates on Aesthetics and Interpretation. Honolulu: University of Hawaii Press, 2002. 247 p. URL: https://dokumen.pub/download/japanese-hermeneutics-current-debates-on-aesthetics-and-interpretation-9780824863104.html. Accessed: 26.11.2024.
- Morgan, P., Tseng A., ed. Kyoto Visual Culture in the Early Edo and Meiji Periods: The arts of reinvention. London, Routledge, 2016. 200 p.
- Seiko, G., Takahiro, N. Japanese Gardens: Symbolism and Design. London and New York, Routledge, 2016. 194 p.
- Акидзато, Р. Цукияма нива дзукури дэн (кохэн) [Традиция создания пейзажных садов (вторая часть)] / Изд. 2-е. Кэнтику сёин, 1918. 122 с. URL: https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100175106/40?ln=ja. Дата обращения: 26.11.2024. яп. яз.
- Амасаки, Х. Уэдзи-но нива: Огава дзихэй-но сэкай [Сады Уэдзи: мир Огавы Дзихэя]. Киото: Танкося, 1990. 237 с. яп. яз.
- Уэдзи-но нива-ни окэру сэнтя-тэки хассо. Хэйсэй 15 нэндо, Ниппон дзоэн гаккай дзэнкоку тайкай кэнкю хаппё ромбун-сю [Влияние чая сэнтя на идеологию садов Уэдзи. Материалы Всеяпонской научной конференции по садам Уэдзи, 2003 год] // Journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture. 2003, 66(5). С. 381–384. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jila/66/5/66_5_381/_pdf/-char/ja. Дата обращения: 26.11.2024. яп. яз.
Все материалы предоставлены автором. Статья опубликована по итогам международной конференции «В соавторстве с Природой» в рамках «WID-2024 — Международных дней интерьерного дизайна во Владивостоке», 2024, г. Владивосток.
Для цитирования:
Матрусова, Т. Н. Японский чайный сад: взгляд из России // Yugen Landscape Journal: электронный журнал. 2025. № 3. URL: https://yugenlandscape.ru/2025/matrusova-japonskii-chajnyi-sad-vzglyad-iz-rossii. Дата публикации: 14 мая 2025.
For citation:
Matrusova, T. N. Japanese tea garden: A view from Russia. Yugen Landscape Journal. 2025, No. 3. URL: https://yugenlandscape.ru/2025/matrusova-japonskii-chajnyi-sad-vzglyad-iz-rossii.
Матрусова, Т. Н. Японский чайный сад: взгляд из России // Yugen Landscape Journal: электронный журнал. 2025. № 3. URL: https://yugenlandscape.ru/2025/matrusova-japonskii-chajnyi-sad-vzglyad-iz-rossii. Дата публикации: 14 мая 2025.
For citation:
Matrusova, T. N. Japanese tea garden: A view from Russia. Yugen Landscape Journal. 2025, No. 3. URL: https://yugenlandscape.ru/2025/matrusova-japonskii-chajnyi-sad-vzglyad-iz-rossii.
О журнале
Электронное сетевое периодическое научно-популярное издание «Yugen Landscape Journal», №3, 2025
Учредитель и издатель
C.А. Мостовой
Главный редактор
C.А. Мостовой
Редакционный совет
Н.В. Ершова, канд. экон. наук
М.Е. Игнатьева, PhD (Австралия)
Д. Иманиси, PhD (Япония)
А.С. Мостовая, канд. ист. наук
С.А. Мостовой, канд. ист. наук
М.Е. Игнатьева, PhD (Австралия)
Д. Иманиси, PhD (Япония)
А.С. Мостовая, канд. ист. наук
С.А. Мостовой, канд. ист. наук
Зам. гл. редактора
А.С. Мостовая
Дизайн и верстка
С.А. Мостовой
Дата публикации
14 мая 2025 г.
На обложке
Райский сад («Сад цветов, камней и воды») в холле Штаб-квартиры школы икэбана Согэцу (Sogetsu Kaikan), Токио, арх. Исаму Ногучи (Фото: © С.А. Мостовой)
Обратиться в редакцию
yugenland@mail.ru
(984) 146-40-52
(984) 146-40-52
Официальный сайт
yugenlandscape.ru
Регистрация
ISSN 2782-5388
Сетевое издание зарегистрировано в Роскомнадзоре. Рег. № СМИ Эл № ФС77-80766 от 09 апреля 2021 г.
Сетевое издание зарегистрировано в Роскомнадзоре. Рег. № СМИ Эл № ФС77-80766 от 09 апреля 2021 г.
Авторские права
Перепечатка, воспроизведение и иное использование опубликованных материалов допускается только с разрешения редакции и при соблюдении действующих норм защиты авторских прав. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несёт ответственность за точность и достоверность сведений, приводимых авторами.
© Yugen Landscape Journal (СМИ), 2025
Все права защищены
© Yugen Landscape Journal (СМИ), 2025
Все права защищены