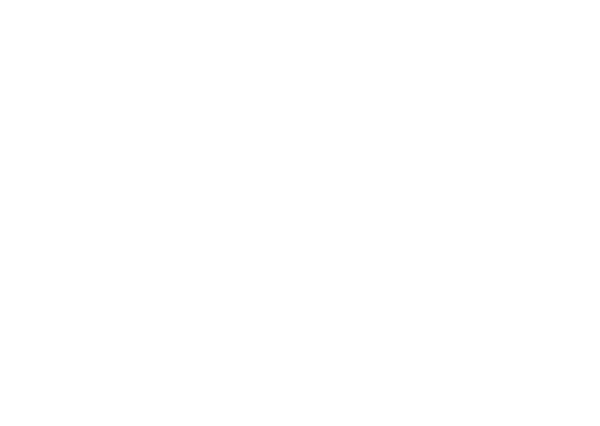ландшафт
Зайцев Александр Борисович
Япония: «язык другой, но образ неизменен»
г. Санкт-Петербург

12+
Japan: "The language is different, but the image is the same"
Saint Petersburg, Russia
Alexandr B. Zaitsev

Сад виллы Мурин-ан, г. Киото (фото: ©Yasuhiro Imamiya)
14 мая 2025
The article traces the history of gardens in Japan in their development from antiquity to the present day. Special attention is paid to the deep connection of garden art with other arts which largely determined the stylistic diversity of gardens. The Buddhist monk Kukai (774−835) who bore the high title of "The Grand Master who Propagated the Dharma" believed that "art is revealing to us the state of perfection". For the Japanese, whose worldview is inextricably linked with nature, achieving a state of perfection can only be thought of in cooperation with nature, and one of the ways of such cooperation is the art of Japanese gardens.
publication online: may 14, 2025
«Сквозь марево веков, манящи и чисты,
Вдруг возникают, словно сновиденье
Садов Японии прекрасные черты»
Причина, по которой японцы стали создавать сады, ничем не отличается от той же причины у других народов – приблизить к себе мир природы. Это стремление становилось тем сильнее, чем дальше человек отдалялся от нее. Естественно, у каждого народа в его попытках не слишком отрываться от природы существует своя специфика. Думается, она заключается, прежде всего, в потребности не просто приблизить к себе природу, использовать ее для более комфортной жизни, образовав пару человек-природа, а ощутить свое с ней единство, свою нераздельность с ней, при которой дуальность человек-природа превращается в нечто одно – человекприрода. Этой цели служат и прогулочные сады, и маленькие уединенные цубо, и чайные, и сухие сады.
Во Владивостоке, в северо-восточной части кампуса Владивостокского Государственного университета, в 2001 году был создан японский сад, открытый для всех желающих. В интервью с автором проекта Куго Синдзи прозвучал вопрос, почему для сада выбран стиль «сухого пейзажа», на что был получен ответ – именно этот стиль ассоциируется в зарубежных странах с Японией [1, с. 19]. Замечание, безусловно, справедливое, однако следует заметить, что столь однобокое представление людей Запада об искусстве японских садов, имеющих многовековую историю, чрезвычайно искажает их многоликий образ.
Можно привести пять основных классификаций японских садов:
- По трем универсальным эстетическим категориям – син (природные), гё (символические), со (абстрактные).
- По «главному герою» – сады деревьев, сады воды, сады камней, в числе которых – сухие сады карэсансуй.
- По стилям, непосредственно связанным с архитектурой – сады в стиле синдэн, сёин, цубонива, «сады даймё».
- По функциональному назначению – прогулочные (каиюсикитэйэн), сады для созерцания (дзэнтэй), чайные сады (тянива).
- По характеру ландшафта – холмистые (цукияманива) и плоские (хиранива).
Как все начиналось
История японских садов началась в 74 году, когда, согласно «Анналам Японии» («Нихон сёки»), император Кэйко (годы правления 71–130), изволил отправиться в страну Мино (совр. преф. Гифу). По пути ему доложили, что там живет одна девушка по имени Ото-пимэ, «собой как никто пригожа». И вот: «Решил государь взять ее в жены и отправился в дом Ото-пимэ. А Ото-пимэ, прослышав о государевом выезде, спряталась в бамбуковых зарослях. Тогда государь, желая, чтобы она пришла, поселился во дворце Кукури-но мия. Он пустил плавать в пруду карпа и утром и вечером смотрел на него и забавлялся. Ото-пимэ захотела посмотреть на резвящегося карпа, прокралась потихоньку поближе и стала смотреть на пруд. Государь тут же удержал ее и призвал к себе». Карпа Кэйко пустил в пруд с намеком, который девушка, конечно, поняла: японское название карпа кои означает также «любовь» [2].
Так ли это было, вопрос спорный, но в уезде Кани префектуры Гифу, где находилась деревня Кукури, археологи обнаружили маленькое глубокое озеро, созданное в древности с помощью перегородившей реку каменной плотины. Судя по отсутствию каких-либо признаков хозяйственного использования сооружения, стало понятно, что оно было построено в декоративных или развлекательных целях. Однако принято считать, что первые искусственные ландшафты, положившие начало садам, появились в Японии в IV–V веках. Наиболее изученным из них является святилище Дзё-но коси исэки, обнаруженное при раскопках в префектуре Миэ. В нем проводились обряды поклонения трем водным источникам, питавшим небольшой ручей искусственного происхождения.
В русле ручья были обнаружены важные свидетельства обрядов – черепки небольших горшков с круглым днищем и подставкой эпохи Кофун (300–538), а также косточки персика обыкновенного. В то время персик был значимым растением. Из его древесины изготавливался лук для изгнания злых духов, к тому же персик защищал от наговоров. Для охранения от злых духов служил и персиковый амулет, который посылали друзьям под Новый год в качестве оберега. Магические свойства персиковых плодов спасли бога Идзанаги от погони воинства «Страны тьмы», куда уходят мертвые.
В русле были найдены также плоды и пыльца дуба пильчатого, дуба острейшего и вишни мелкопильчатой, благодаря чему стало возможным восстановление рощи святилища. Кроме того, в слое, относящемся к периоду Нара (710–794), был найден фрагмент сосуда с иероглифом «сад», позволяющим предположить, что в Дзё-но коси исэки, по крайней мере, в период Нара, существовали искусственные посадки. Дуб пильчатый распространен по всей Японии. Он замечателен тем, что осенью его листья засыхают, но, сохраняя форму, не опадают до самой весны, окрашивая крону в желтый цвет. Дуб острейший замечателен тем же, а плоды вишни мелкопильчатой несъедобны, и она может служить только декоративным целям. Это значит, что роща служила, скорее всего, для любования. Очевидно также, что камни вдоль берегов ручья не были беспорядочно разбросаны, а выложены для их укрепления, на месте же разветвления рукавов ручья сгруппированы в отдельные композиции.
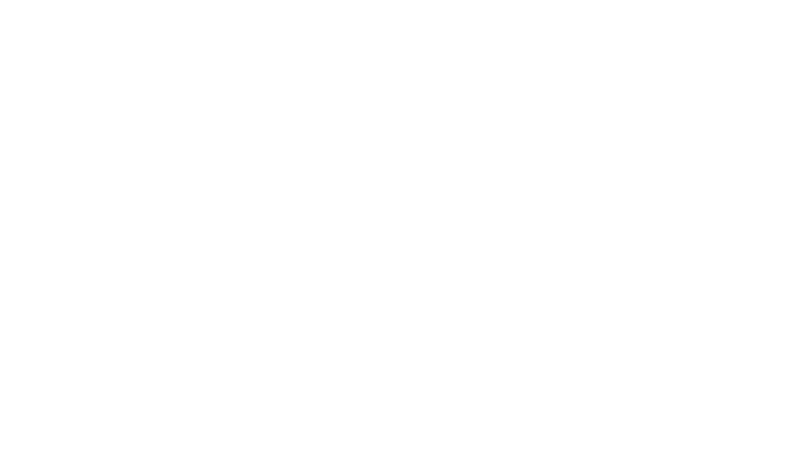
Рис. 1. Дзё-но коси исэки, преф. Миэ. Ручей и роща (фото: ©adeac.jp)
Одновременно со священными рощами святилищ появились и начали развиваться светские сады. Три таких сада были найдены в долине Асука (совр. преф. Нара). Все три сада – Исигами, Сима-но сё и Асука-кё ато энти, являются садами воды, но композиционно значительно отличаются друг от друга. Если в первых двух садах пруды небольшие и прямоугольные, то пруд Асука-кё ато энти, наиболее позднего сада, относящегося к концу эпохи Асука (593–710), имел сложную форму. Более того, занимая огромную площадь 200 × 70 м при глубине всего 30 см, он был разделен насыпью на две части – южную и северную.
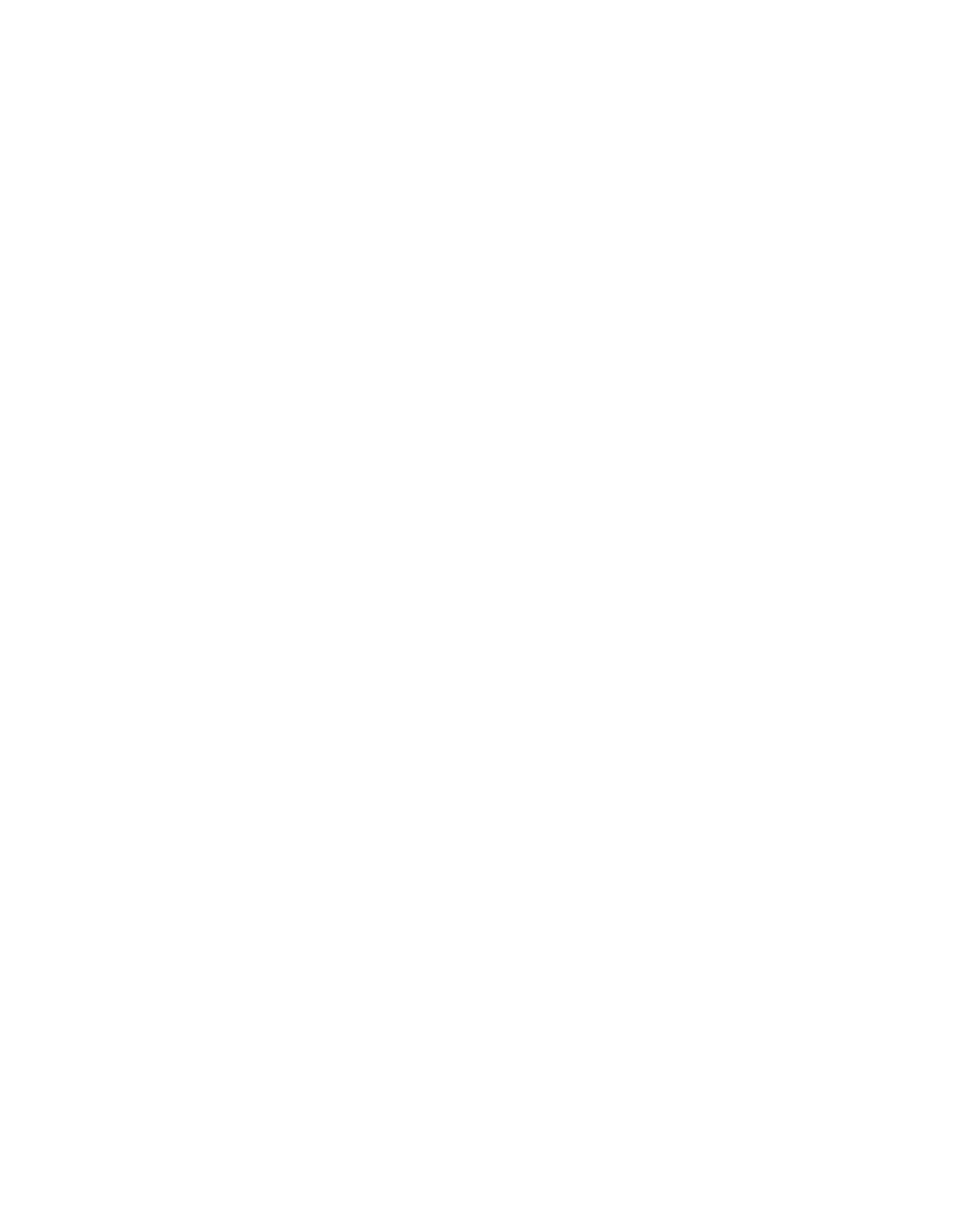
Рис. 2. Сад Асука-кё ато энти, преф. Нара. План (©asukakaze.blogspot.com):
1 — северный пруд; 2 — насыпь; 3 — южный пруд; 4 — срединный остров; 5 — малый остров.
1 — северный пруд; 2 — насыпь; 3 — южный пруд; 4 — срединный остров; 5 — малый остров.
В южном пруду, имеющем форму колокола, было два острова – большой, сложной формы, с росшими на нем двумя соснами, и малый в виде выступающей из воды каменной насыпи. Северный пруд имел почти правильную прямоугольную форму со скругленным северным берегом, со стороны которого в пруд по выложенному камнем каналу поступала чистая вода из находившегося рядом источника. Примечательно, что только в этом саду упоминается о нескольких соснах, росших на острове. В других двух садах растений либо не было, либо им не придавалось значения, а главными материалами для создания сада служили вода и камень.
Существенная разница между садами может быть связана с тем, что первые два создавались переселенцами из Кореи, точнее, из корейского государства Пэкче, для садов которого были характерны прямоугольные пруды. Однако в 660 году, как раз в конце эпохи Асука, Пэкче пало под ударами государства Силла, тоже корейского, у садовых мастеров которого были свои представления о прекрасном. Три сада Асука, включая Асука-кё ато энти с его северным прудом – единственные сады, в которых был прямоугольный пруд. Водоемы такой формы больше не встречаются в японских садах до XVII века, когда выдающийся мастер садов Кобори Энсю стал использовать их в работах стиля «геометрического дизайна».
Таким образом, в Дзё-но коси исэки и трех садах долины Асука присутствовали все три элемента, ставшие впоследствии главными составляющими японского сада: вода, камень и свободное пространство, которое в Дзё-но коси исэки использовалось для проведения ритуалов мацури. Все они признаны большинством исследователей первыми японскими садами.
Тайна японского искусства
Основная причина, по которой эти элементы стали главными, кроется в мировосприятии Китая, сыгравшего немалую роль в становлении японской культуры. Конкретнее – в философии великой «Книги перемен» («И дзин»), написанной в VII–VIII вв. до н. э. и дошедшей до наших дней.
Этой философией проникнуты все классические китайские и японские произведения искусства, будь то сад, картина или цветочная композиция. Согласно «И цзин», мир является динамичной, находящейся в вечном изменении системой. Эти изменения обусловлены беспрерывным взаимодействием и взаимопревращением двух начал – Инь и Ян, которые выражают дуальность множественного мира парами противоположностей: небо и земля, свет и тьма, положительное и отрицательное, покой и движение, добро и зло и т.д. Одно невозможно без другого. Ян порождает Инь, а Инь порождает Ян. Они действуют друг в друге и переходят друг в друга: в Ян существует зародыш Инь, потенция стать Инь, и наоборот. Такая взаимообусловленность делает весьма относительным само понятие «противоположности», так как любая из противоположностей включает в себя другую.
Но есть нечто неизменное в этом вечно становящемся мире. Некий глобальный закон естественного хода вещей, не изменяющийся никогда. Пусть день сменяется ночью, но он сменяется ею всегда. Пусть жизнь сменяется смертью, но эта перемена также неизбежна. Именно этот космический неизменный закон, этот «путь вещей» и является истинной реальностью. Все остальное эфемерно и преходяще. Это неизменное получило название «Тай цзи», что означает «Великое первоначало» или «Великий предел». Это мгновение, когда Инь уже не Инь, но еще не Ян, а Ян еще не Инь, но уже не Ян, мгновение, в которое прозревается абсолютная пустота, она же – абсолютная наполненность, прозревается Единое.
В разных видах искусства Инь, Ян и Тай цзи (абсолют, дао, шуньята) отображаются по-разному. В японской поэзии невыразимое словом Единое раскрывается с помощью специального приема ёдзё, смысл которого в недосказанности, суггестивности. Искусство поэта заключается в том, чтобы ввести паузу или оборвать стихотворение в нужный момент. Тогда в сердце человека возникает отклик, помогающий ему домыслить, дочувствовать то, перед чем слова бессильны. Ёдзё – один из главных принципов японского искусства вообще. Недаром японский философ Дайсэцу Судзуки сказал: «В намеке заключена вся тайна японского искусства» [3]. В живописи Инь символизируется изображением всего, что связано с водной стихией, Ян – горами, Тай цзи – незаполненным пространством картины; в икэбане Тай цзи выражается акцентированием промежутков между элементами композиции. В садах же камни символизируют Ян, вода, живая или замененная гравием – Инь, открытые гравийные, песчаные или газонные площадки – Тай цзи.
Язык символов
Ощутить, сколь виртуозно используют японские мастера садов язык символов для создания вторых и третьих подтекстов, рождающих цепь ассоциаций, позволит знакомство с двумя садами. Первый сад, Фумабакурэн, создан ландшафтным архитектором Масуно Сюммё, о котором речь идет в первом номере электронного журнала «Yugen Landscape Journal» [4]. Автор второго сада, принадлежавшего угольному промышленнику Ито Дэнэмону (1861–1947), неизвестен.
Сохраняя верность духу японского сада, Сюммё, не забывавший о том, что сад – живой организм, подверженный переменам, не всегда следовал его букве. Свидетельство тому – созданный в 1994 году сухой сад Фумабакурэн перед Национальным научно-исследовательским институтом материаловедения (National Institute for Materials Research) в г. Цукуба (преф. Ибараки).
Существенная разница между садами может быть связана с тем, что первые два создавались переселенцами из Кореи, точнее, из корейского государства Пэкче, для садов которого были характерны прямоугольные пруды. Однако в 660 году, как раз в конце эпохи Асука, Пэкче пало под ударами государства Силла, тоже корейского, у садовых мастеров которого были свои представления о прекрасном. Три сада Асука, включая Асука-кё ато энти с его северным прудом – единственные сады, в которых был прямоугольный пруд. Водоемы такой формы больше не встречаются в японских садах до XVII века, когда выдающийся мастер садов Кобори Энсю стал использовать их в работах стиля «геометрического дизайна».
Таким образом, в Дзё-но коси исэки и трех садах долины Асука присутствовали все три элемента, ставшие впоследствии главными составляющими японского сада: вода, камень и свободное пространство, которое в Дзё-но коси исэки использовалось для проведения ритуалов мацури. Все они признаны большинством исследователей первыми японскими садами.
Тайна японского искусства
Основная причина, по которой эти элементы стали главными, кроется в мировосприятии Китая, сыгравшего немалую роль в становлении японской культуры. Конкретнее – в философии великой «Книги перемен» («И дзин»), написанной в VII–VIII вв. до н. э. и дошедшей до наших дней.
Этой философией проникнуты все классические китайские и японские произведения искусства, будь то сад, картина или цветочная композиция. Согласно «И цзин», мир является динамичной, находящейся в вечном изменении системой. Эти изменения обусловлены беспрерывным взаимодействием и взаимопревращением двух начал – Инь и Ян, которые выражают дуальность множественного мира парами противоположностей: небо и земля, свет и тьма, положительное и отрицательное, покой и движение, добро и зло и т.д. Одно невозможно без другого. Ян порождает Инь, а Инь порождает Ян. Они действуют друг в друге и переходят друг в друга: в Ян существует зародыш Инь, потенция стать Инь, и наоборот. Такая взаимообусловленность делает весьма относительным само понятие «противоположности», так как любая из противоположностей включает в себя другую.
Но есть нечто неизменное в этом вечно становящемся мире. Некий глобальный закон естественного хода вещей, не изменяющийся никогда. Пусть день сменяется ночью, но он сменяется ею всегда. Пусть жизнь сменяется смертью, но эта перемена также неизбежна. Именно этот космический неизменный закон, этот «путь вещей» и является истинной реальностью. Все остальное эфемерно и преходяще. Это неизменное получило название «Тай цзи», что означает «Великое первоначало» или «Великий предел». Это мгновение, когда Инь уже не Инь, но еще не Ян, а Ян еще не Инь, но уже не Ян, мгновение, в которое прозревается абсолютная пустота, она же – абсолютная наполненность, прозревается Единое.
В разных видах искусства Инь, Ян и Тай цзи (абсолют, дао, шуньята) отображаются по-разному. В японской поэзии невыразимое словом Единое раскрывается с помощью специального приема ёдзё, смысл которого в недосказанности, суггестивности. Искусство поэта заключается в том, чтобы ввести паузу или оборвать стихотворение в нужный момент. Тогда в сердце человека возникает отклик, помогающий ему домыслить, дочувствовать то, перед чем слова бессильны. Ёдзё – один из главных принципов японского искусства вообще. Недаром японский философ Дайсэцу Судзуки сказал: «В намеке заключена вся тайна японского искусства» [3]. В живописи Инь символизируется изображением всего, что связано с водной стихией, Ян – горами, Тай цзи – незаполненным пространством картины; в икэбане Тай цзи выражается акцентированием промежутков между элементами композиции. В садах же камни символизируют Ян, вода, живая или замененная гравием – Инь, открытые гравийные, песчаные или газонные площадки – Тай цзи.
Язык символов
Ощутить, сколь виртуозно используют японские мастера садов язык символов для создания вторых и третьих подтекстов, рождающих цепь ассоциаций, позволит знакомство с двумя садами. Первый сад, Фумабакурэн, создан ландшафтным архитектором Масуно Сюммё, о котором речь идет в первом номере электронного журнала «Yugen Landscape Journal» [4]. Автор второго сада, принадлежавшего угольному промышленнику Ито Дэнэмону (1861–1947), неизвестен.
Сохраняя верность духу японского сада, Сюммё, не забывавший о том, что сад – живой организм, подверженный переменам, не всегда следовал его букве. Свидетельство тому – созданный в 1994 году сухой сад Фумабакурэн перед Национальным научно-исследовательским институтом материаловедения (National Institute for Materials Research) в г. Цукуба (преф. Ибараки).
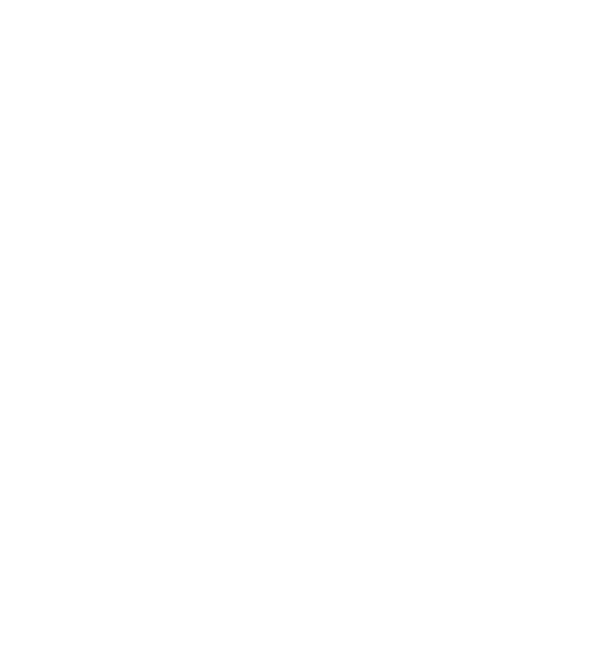
Рис. 3. Сад Фумабакурэн, преф. Ибараки. Арх. Масуно Сюммё
В то время как в своих традиционных садах Масуно использует вариации форм, разработанных на протяжении веков, в современных работах он часто прибегает к необычной интерпретации этих форм. В Фумабакурэн извилистый сухой ручей начинается в треугольном водоеме с туманообразующими форсунками, а заканчивается в водоеме правильной круглой формы.
Вся композиция построена на контрастах: дорожка, прямолинейность которой усиливается столь же прямолинейными кубами окружающих сад зданий, контрастирует с плавными изгибами ручья и очертаниями засеянных травой участков; однообразность расчерченного квадратами плиточного мощения разбивается грубо околотыми глыбами камней и деревом, как бы случайно пробившим щит мощения. Камни, в большинстве своем имеющие вытянутую форму, развернуты в одном направлении, имитируя природное выветривание скальных пород под воздействием преобладающих ветров, «шлифующих» их поверхности, что наряду с нарочитой грубостью форм должно было создать ощущение природной мощи. С ветрами связано и само название сада «Фумабакурэн-но нива», где присутствуют иероглифы «ветер», «шлифовка», «очищение» и «закалка» (стали). Это можно понимать, как «Сад ветра познания, шлифующего ум, очищающего сердце и закаляющего волю».
Контрастное построение композиции, вызывающее чувство напряженности, выражает остроту борьбы рациональности разума ученого со стихийностью природных сил. Прямая, как стрела, выложенная квадратами бетонных плит дорожка, пересекающая иррациональные формы окружающего ландшафта, и треугольный водоем-источник – это знак вмешательства человека в окружающую среду. С другой стороны, противопоставление рукотворного и природного, строго геометрических и мягких природных линий в дизайне может ассоциироваться с рациональным и интуитивным познанием в науке.
Масуно определил тему этого сада как первую встречу человека с металлом, поскольку металл имеет прямое отношение к работе института, перед которым сад располагается. Стараясь выразить идею увлеченности ученых своим трудом и того упорства, с которым они идут к решению поставленной задачи, Масуно сравнил это упорство с настойчивостью золотоискателей времен Золотой лихорадки, промывавших сотни галлонов речного песка ради нескольких крупинок драгоценного металла. На языке сада эта идея прочитывается в резкой, динамичной, угловатой форме водоема, служащего источником ручья, золотистым цветом самого ручья и спокойной, круглой формой водоема в его устье, говорящей об умиротворенности, ощущаемой человеком, достигшим цели.
Однако зритель может увидеть в этих элементах сада и другой смысл, объясняющий необычную форму пруда-истока. Дело в том, что в дизайне сада присутствуют три сакральных фигуры дзэн-буддизма, адептом которого был Масуно Сюммё – треугольник (водоём-исток), квадрат (плиты мощения) и круг (водоём, в который впадает ручей).
Треугольник – это пламенное стремление к вершине, символ активной жизни с ее желаниями, взлетами и падениями. Но все это – греза, иллюзия, майя, туман авидьи, затмевающий разум.
Квадрат – символ Земли и всего земного. Примечательно, что Сюммё выбрал для квадратов мощения белый цвет, и это тоже весьма символично. Белый цвет означает чистоту, но в контексте сада он читается, скорее, как очищение. Очищение от пыли мирской, избавление от мира страданий, поскольку, как говорит буддизм «в страдании рождаемся, в страдании живем, в страдании умираем». В то же время белый цвет – цвет стихии металла, цвет холода, увядания и упадка, цвет траурных одежд.
Круг – символ Неба, знак совершенства.
Ручей с трудом, извиваясь и петляя, преодолевает земной мир страданий и завершает свой путь в круглом озере просветленности с горой Сумеру, возвышающейся над его гладью. Труден путь от мира суеты к состоянию просветления, но еще труднее постигнуть, что мир суеты и мир просветленности – едины.
Что касается второго сада, то его владелец Ито Дэнэмон (1861–1947) родился в семье, не отличавшейся знатностью и богатством. Благодаря своей предприимчивости, Дэнэмон сумел стать известным человеком в угольном бизнесе. Его вторая, двадцатипятилетняя супруга Янагивара Бякурэн, на которой он женился в возрасте пятидесяти двух лет после смерти первой жены, принадлежала к аристократической фамилии, находившейся в родстве с императорским домом.
Бякурэн («Белый лотос») была прекрасной поэтессой, завоевавшей всеобщее признание после публикации первого же сборника «Фумиэ». Фумиэ – медная пластинка с изображением девы Марии или распятием, которую в XVII–XVIII веках заставляли топтать ногами как доказательство того, что человек не является христианином. Вскоре Бякурэн стала центром литературных салонов высшего общества. Отдавая дань красоте и таланту Бякурэн, ее называли Королевой Цукуси, самой богатой провинции острова Кюсю. Но после 10 лет брака Бякурэн порывает с преуспевающим бизнесменом Дэнэмоном и сбегает от него со студентом Токийского университета.
Усадьба Дэнэмона построена в 1916 году в преф. Фукуока (о. Кюсю). Завершение главного сада усадьбы было приурочено к знаменательному событию в жизни Дэнэмона – бракосочетанию с Янагивара Бякурэн. Для Ито Дэнэмона, страстно мечтавшего войти в высшее общество, это было особенно важно. Когда он сватался к Бякурэн в первый раз, был получен отказ из-за его низкого происхождения. Потребовалось вмешательство высокопоставленного лица, чтобы брак состоялся. Не удивительно, если Дэнэмон надеялся на появление под его фамилией новой династии, в жилах членов которой потечет императорская кровь.
Композиционно главный сад достаточно типичен. Это прогулочный сад, одну из сторон которого занимает главный дом усадьбы. С трех других сторон сад окружают густые посадки деревьев и кустарников, в обрамлении которых раскинулся газон, пересеченный извилистым ручьем с двумя небольшими водоемами. В центре широкой дуги, образованной этим ручьем, поставлена круглая беседка. Однако в саду ждут и неожиданности.
Прежде всего, это использование бетонных конструкций и конструктивных элементов, которые во многих местах заменяют садовые камни, соседствуя с натуральными. Причем бетонные цилиндры, заменяющие садовые камни, расположены не только на берегах, но и в самом ручье. Такое активное использование бетона в саду появилось не без западного влияния.
Вся композиция построена на контрастах: дорожка, прямолинейность которой усиливается столь же прямолинейными кубами окружающих сад зданий, контрастирует с плавными изгибами ручья и очертаниями засеянных травой участков; однообразность расчерченного квадратами плиточного мощения разбивается грубо околотыми глыбами камней и деревом, как бы случайно пробившим щит мощения. Камни, в большинстве своем имеющие вытянутую форму, развернуты в одном направлении, имитируя природное выветривание скальных пород под воздействием преобладающих ветров, «шлифующих» их поверхности, что наряду с нарочитой грубостью форм должно было создать ощущение природной мощи. С ветрами связано и само название сада «Фумабакурэн-но нива», где присутствуют иероглифы «ветер», «шлифовка», «очищение» и «закалка» (стали). Это можно понимать, как «Сад ветра познания, шлифующего ум, очищающего сердце и закаляющего волю».
Контрастное построение композиции, вызывающее чувство напряженности, выражает остроту борьбы рациональности разума ученого со стихийностью природных сил. Прямая, как стрела, выложенная квадратами бетонных плит дорожка, пересекающая иррациональные формы окружающего ландшафта, и треугольный водоем-источник – это знак вмешательства человека в окружающую среду. С другой стороны, противопоставление рукотворного и природного, строго геометрических и мягких природных линий в дизайне может ассоциироваться с рациональным и интуитивным познанием в науке.
Масуно определил тему этого сада как первую встречу человека с металлом, поскольку металл имеет прямое отношение к работе института, перед которым сад располагается. Стараясь выразить идею увлеченности ученых своим трудом и того упорства, с которым они идут к решению поставленной задачи, Масуно сравнил это упорство с настойчивостью золотоискателей времен Золотой лихорадки, промывавших сотни галлонов речного песка ради нескольких крупинок драгоценного металла. На языке сада эта идея прочитывается в резкой, динамичной, угловатой форме водоема, служащего источником ручья, золотистым цветом самого ручья и спокойной, круглой формой водоема в его устье, говорящей об умиротворенности, ощущаемой человеком, достигшим цели.
Однако зритель может увидеть в этих элементах сада и другой смысл, объясняющий необычную форму пруда-истока. Дело в том, что в дизайне сада присутствуют три сакральных фигуры дзэн-буддизма, адептом которого был Масуно Сюммё – треугольник (водоём-исток), квадрат (плиты мощения) и круг (водоём, в который впадает ручей).
Треугольник – это пламенное стремление к вершине, символ активной жизни с ее желаниями, взлетами и падениями. Но все это – греза, иллюзия, майя, туман авидьи, затмевающий разум.
Квадрат – символ Земли и всего земного. Примечательно, что Сюммё выбрал для квадратов мощения белый цвет, и это тоже весьма символично. Белый цвет означает чистоту, но в контексте сада он читается, скорее, как очищение. Очищение от пыли мирской, избавление от мира страданий, поскольку, как говорит буддизм «в страдании рождаемся, в страдании живем, в страдании умираем». В то же время белый цвет – цвет стихии металла, цвет холода, увядания и упадка, цвет траурных одежд.
Круг – символ Неба, знак совершенства.
Ручей с трудом, извиваясь и петляя, преодолевает земной мир страданий и завершает свой путь в круглом озере просветленности с горой Сумеру, возвышающейся над его гладью. Труден путь от мира суеты к состоянию просветления, но еще труднее постигнуть, что мир суеты и мир просветленности – едины.
Что касается второго сада, то его владелец Ито Дэнэмон (1861–1947) родился в семье, не отличавшейся знатностью и богатством. Благодаря своей предприимчивости, Дэнэмон сумел стать известным человеком в угольном бизнесе. Его вторая, двадцатипятилетняя супруга Янагивара Бякурэн, на которой он женился в возрасте пятидесяти двух лет после смерти первой жены, принадлежала к аристократической фамилии, находившейся в родстве с императорским домом.
Бякурэн («Белый лотос») была прекрасной поэтессой, завоевавшей всеобщее признание после публикации первого же сборника «Фумиэ». Фумиэ – медная пластинка с изображением девы Марии или распятием, которую в XVII–XVIII веках заставляли топтать ногами как доказательство того, что человек не является христианином. Вскоре Бякурэн стала центром литературных салонов высшего общества. Отдавая дань красоте и таланту Бякурэн, ее называли Королевой Цукуси, самой богатой провинции острова Кюсю. Но после 10 лет брака Бякурэн порывает с преуспевающим бизнесменом Дэнэмоном и сбегает от него со студентом Токийского университета.
Усадьба Дэнэмона построена в 1916 году в преф. Фукуока (о. Кюсю). Завершение главного сада усадьбы было приурочено к знаменательному событию в жизни Дэнэмона – бракосочетанию с Янагивара Бякурэн. Для Ито Дэнэмона, страстно мечтавшего войти в высшее общество, это было особенно важно. Когда он сватался к Бякурэн в первый раз, был получен отказ из-за его низкого происхождения. Потребовалось вмешательство высокопоставленного лица, чтобы брак состоялся. Не удивительно, если Дэнэмон надеялся на появление под его фамилией новой династии, в жилах членов которой потечет императорская кровь.
Композиционно главный сад достаточно типичен. Это прогулочный сад, одну из сторон которого занимает главный дом усадьбы. С трех других сторон сад окружают густые посадки деревьев и кустарников, в обрамлении которых раскинулся газон, пересеченный извилистым ручьем с двумя небольшими водоемами. В центре широкой дуги, образованной этим ручьем, поставлена круглая беседка. Однако в саду ждут и неожиданности.
Прежде всего, это использование бетонных конструкций и конструктивных элементов, которые во многих местах заменяют садовые камни, соседствуя с натуральными. Причем бетонные цилиндры, заменяющие садовые камни, расположены не только на берегах, но и в самом ручье. Такое активное использование бетона в саду появилось не без западного влияния.
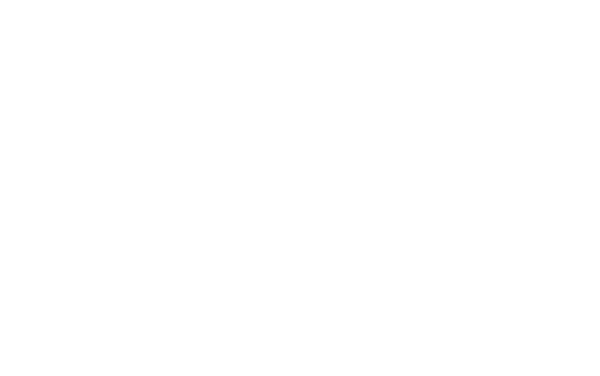
Рис. 4. Усадьба Ито Дэнэмона, преф. Фукуока. Главный сад (фото: ©kyushu-sanpo.jp)
Замечательно даже не само по себе наличие в саду, казалось бы, не сочетаемых природных камней и искусственных геометрических объектов.Благодаря стилистическому единству сада это соседство удивляет, но не вызывает резкого отторжения. Использовать геометрические формы начал еще известный мастер садов Кобори Энсю (1579–1647), но подобные формы созвучны и модерну начала XX века. Бетонными сделаны и мосты, и сами берега ручья, через который эти мосты перекинуты, и остров в пруду.
Интересен двойной мост из бетонных дуг, редкий в японских садах, но остров поражает особенно. Он представляет собой плоскую залитую бетоном площадку неправильной формы. Посреди этой площадки возвышается каменистый холм с двумя искусно сформированными бонсаями и кустиком между ними. Фонарь, поставленный на острове, расположен так, что он и деревья оказываются в вершинах воображаемого треугольника – символа числа «три», самого по себе весьма символичного. На острове, окруженном такими же бетонными берегами ручья, расставлены несколько камней и цилиндрических столбиков, встречающихся также на берегах по всему руслу. При всей необычности бетонного острова, как, впрочем, и всего одетого в бетон ручья с его столбиками, с ним возникают определенные ассоциации. Этот остров удивительно напоминает бонкэй – живой пейзаж, созданный на подносе.
Интересен двойной мост из бетонных дуг, редкий в японских садах, но остров поражает особенно. Он представляет собой плоскую залитую бетоном площадку неправильной формы. Посреди этой площадки возвышается каменистый холм с двумя искусно сформированными бонсаями и кустиком между ними. Фонарь, поставленный на острове, расположен так, что он и деревья оказываются в вершинах воображаемого треугольника – символа числа «три», самого по себе весьма символичного. На острове, окруженном такими же бетонными берегами ручья, расставлены несколько камней и цилиндрических столбиков, встречающихся также на берегах по всему руслу. При всей необычности бетонного острова, как, впрочем, и всего одетого в бетон ручья с его столбиками, с ним возникают определенные ассоциации. Этот остров удивительно напоминает бонкэй – живой пейзаж, созданный на подносе.
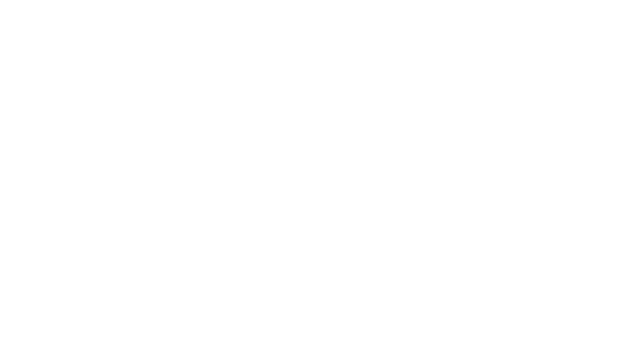
Рис. 5. Усадьба Ито Дэнэмона, преф. Фукуока. Остров (фото: ©kunishitei.bunka.go.jp)
Сад содержит две структурно различных области. Одна область, состоящая из густых зарослей свободно растущих деревьев и кустарников, окружает поляну – вторую область, отличающуюся от первой своей рукотворностью. Подавляющее большинство растений во второй области сформированы человеком. Большинство, но не все. Некоторые лесные деревья и кусты все же проникли на поляну, стараясь найти общий язык со своими цивилизованными собратьями, и не без успеха. Вызывающе рукотворным оказался ручей, протекающий через поляну. Его русло словно вырезано острым ножом из полосы бетона, образующего берега. Естественным камням, оказавшимся на этом бетонном ложе вместо мягкой родной земли, приходится не слишком уютно, тем более что рядом стоят странные цилиндрические столбики, делающие вид, что они тоже камни.
Что же это за сад? Какая концепция лежит в его основе? Природное и человеческое. Природа и человек. Сад говорит на двух языках, стараясь донести мысль об их единстве – языке природы и языке человека. На языке природы говорят растения, на языке человека, языке символов – бетонные конструкции ручья.
Если приглядеться к бетонным столбикам на острове и по берегам ручья, можно заметить, что они сгруппированы совершенно определенным образом. Это может быть один цилиндр, три или пять. Все числа полны смысла, но главное число – неделимая Единица, «Великий предел» Тай цзи. Эта Единица зашифрована в самой структуре ручья. Триада «1, 3, 5» – это нечетные мужские цифры, символ мужского начала Ян, и все цилиндры, являющиеся в то же время фаллическими символами, сгруппированные по этому принципу, располагаются у воды – символа женского начала Инь. Единство противоположностей Инь-Ян – это то, благодаря чему существует сама жизнь, жизнь природы и человека в их единстве. Единстве не как объединении двух элементов, а как неделимого целого.
Нечетные простые числа считаются в Японии счастливыми, поскольку не делятся на два. Не делится на два и семейное счастье. Оно общее для супругов. С этим, кстати, связан обычай дарить на свадьбу нечетную сумму денег. Есть свадебное подношение и в саду. Это упоминавшийся выше остров, ассоциирующийся с сухама-дай – свадебным подарочным столиком, символизирующим «остров блаженных» Хорай и преподносимым с пожеланием долголетия и счастья. Не случаен и арочный мост, соединяющий «два берега у одной реки».
Что же это за сад? Какая концепция лежит в его основе? Природное и человеческое. Природа и человек. Сад говорит на двух языках, стараясь донести мысль об их единстве – языке природы и языке человека. На языке природы говорят растения, на языке человека, языке символов – бетонные конструкции ручья.
Если приглядеться к бетонным столбикам на острове и по берегам ручья, можно заметить, что они сгруппированы совершенно определенным образом. Это может быть один цилиндр, три или пять. Все числа полны смысла, но главное число – неделимая Единица, «Великий предел» Тай цзи. Эта Единица зашифрована в самой структуре ручья. Триада «1, 3, 5» – это нечетные мужские цифры, символ мужского начала Ян, и все цилиндры, являющиеся в то же время фаллическими символами, сгруппированные по этому принципу, располагаются у воды – символа женского начала Инь. Единство противоположностей Инь-Ян – это то, благодаря чему существует сама жизнь, жизнь природы и человека в их единстве. Единстве не как объединении двух элементов, а как неделимого целого.
Нечетные простые числа считаются в Японии счастливыми, поскольку не делятся на два. Не делится на два и семейное счастье. Оно общее для супругов. С этим, кстати, связан обычай дарить на свадьбу нечетную сумму денег. Есть свадебное подношение и в саду. Это упоминавшийся выше остров, ассоциирующийся с сухама-дай – свадебным подарочным столиком, символизирующим «остров блаженных» Хорай и преподносимым с пожеланием долголетия и счастья. Не случаен и арочный мост, соединяющий «два берега у одной реки».
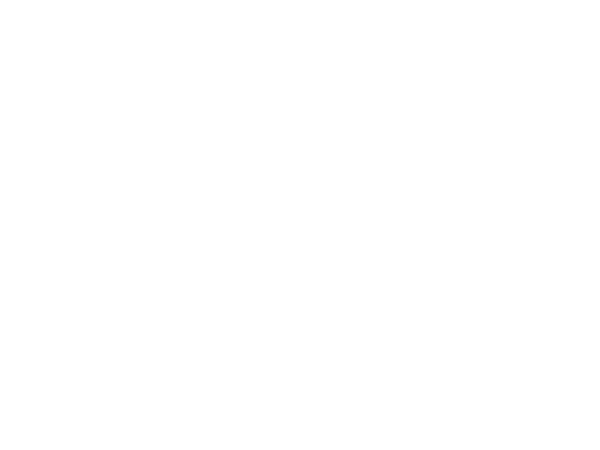
Рис. 6. Сухама-дай (©watayax.com)
Таким образом, главный сад усадьбы Ито Дэнэмона может восприниматься трояко. Для зрителя, не понимающего его символического значения – это чудесный сад, полный эстетических достоинств. Для человека, знакомого с традиционной восточной символикой он наполняется глубоким философским смыслом. Но только тот, кто знаком с историей семьи Ито Дэнэмона, прочтет это послание до конца. Весь главный сад полон скрытого подтекста. Это магическое послание богам о процветании и даровании потомства.
Метаморфозы буддизма
Но вернемся в прошлое. Согласно «Нихон сёки», в 552 году ван Пэкче Сонмён преподнес императору Кэммею (годы правления 539–571) буддийские сутры. С этого знаменательного события началось распространение буддизма в Японии.
Надо сказать, что к трансформации буддизма приложили руку уже в Китае, однако и в смягченном виде буддизм оставался слишком абстрактным учением для японцев, расставившим в нем свои акценты. Об изменениях, произошедших с китайским буддизмом в Японии, можно судить по влиятельной школе японского буддизма – Тэндай, основанной монахом Сайтё (767–822). Особенно наглядно эти изменения проявились в одном из ответвлений Тэндай – Дзёдо, школе «Чистой Земли», последователи которой поклонялись будде Западного Рая – Амиде.
Амидаизм – типичное порождение прекрасной, утонченной и упаднической культуры заката аристократии эпохи Хэйан. Он привлекал уже не надеявшуюся на спасение путем праведной жизни элиту своей простотой и подчеркнутым эстетизмом. От людей не требовалось соблюдения ни буддистской этики, ни утомительных ритуалов. Достаточно было почаще повторять молитвенную формулу «Нами Амида-буцу», и посмертное возрождение в раю обеспечено.
Другим элементом культа Амиды было паломничество в храмы, которые строились в самых красивых местах. Слово «паломничество» связывается в русской традиции с каким-то испытанием. У столичных аристократов все было иначе. Паломничества превращались в приятные прогулки на лоне природы. Если сначала они совершались действительно для проведения религиозных церемоний, то постепенно поводом для паломничества стали любые перемены в жизни природы: цветение горных вишен, клены в алой осенней листве, первый снег. Придворные дамы и кавалеры в роскошных одеждах, в сопровождении пышного эскорта, поднимались в горы, любуясь красотой открывающихся видов. Наконец, их подносили в паланкинах к храму, сливающемуся с окружающей природой. Храмовая роща, изысканность внутреннего убранства – все вызывало восхищение. Поклонение Амиде принимало явственные черты поклонения красоте природы, а чувство эстетического восторга перерастало в восторг религиозный.
Для совершения церемоний служил не только сам храм, но и храмовая роща, как правило, лишь символически отделенная от естественного окружения плетнем или низкой оградой. Весьма образно такая церемония описана у Н. А. Виноградовой в книге «Скульптура Японии. III–XIV вв.»: «На островах его [сада] озера зажигали ажурные бронзовые светильники. В их неярком мерцании еще таинственней казались дали сада. Одежды священнослужителей поражали своим великолепием. Юноши с девушками в роскошных многослойных и многоцветных ярких шелковых нарядах, стоя перед иконами или статуями, мелодично звонили в маленькие колокольчики, повторяя речитативом: «Нами Амида Буцу!» [5].
Впрочем, нечто подобное можно было наблюдать не только в храмовых рощах. В VIII веке искусство светских садов было ознаменовано появлением дворцового стиля синдэн («святилище», «храм»), название которого говорит о связи с древними святилищами. Строения усадьбы синдэн-дзукури, вплотную примыкая друг к другу, образовывали букву П или Н, словно обнимая боковыми галереями сад воды с гравийной площадкой перед главным корпусом и составляя с ним единое целое. Через всю усадьбу проходил ручей, впадавший в озеро и снабжавший его проточной водой. Камни ручья вставали на пути воды, которая, волнуясь и пенясь, издавала мелодичное журчание. В саду сажались цветущие деревья и травы, оттененные зеленью сосен. Там росли дейция городчатая, сливы, вишни, глицинии, керрии, азалии, клены, бамбук, сосна пятиигольчатая. Из трав – померанцы, гвоздики, горечавки, вьюнки, ирисы, аир. Справа и слева от широкой лестницы, ведущей в главный корпус, часто сажалось по цветущему дереву.
Метаморфозы буддизма
Но вернемся в прошлое. Согласно «Нихон сёки», в 552 году ван Пэкче Сонмён преподнес императору Кэммею (годы правления 539–571) буддийские сутры. С этого знаменательного события началось распространение буддизма в Японии.
Надо сказать, что к трансформации буддизма приложили руку уже в Китае, однако и в смягченном виде буддизм оставался слишком абстрактным учением для японцев, расставившим в нем свои акценты. Об изменениях, произошедших с китайским буддизмом в Японии, можно судить по влиятельной школе японского буддизма – Тэндай, основанной монахом Сайтё (767–822). Особенно наглядно эти изменения проявились в одном из ответвлений Тэндай – Дзёдо, школе «Чистой Земли», последователи которой поклонялись будде Западного Рая – Амиде.
Амидаизм – типичное порождение прекрасной, утонченной и упаднической культуры заката аристократии эпохи Хэйан. Он привлекал уже не надеявшуюся на спасение путем праведной жизни элиту своей простотой и подчеркнутым эстетизмом. От людей не требовалось соблюдения ни буддистской этики, ни утомительных ритуалов. Достаточно было почаще повторять молитвенную формулу «Нами Амида-буцу», и посмертное возрождение в раю обеспечено.
Другим элементом культа Амиды было паломничество в храмы, которые строились в самых красивых местах. Слово «паломничество» связывается в русской традиции с каким-то испытанием. У столичных аристократов все было иначе. Паломничества превращались в приятные прогулки на лоне природы. Если сначала они совершались действительно для проведения религиозных церемоний, то постепенно поводом для паломничества стали любые перемены в жизни природы: цветение горных вишен, клены в алой осенней листве, первый снег. Придворные дамы и кавалеры в роскошных одеждах, в сопровождении пышного эскорта, поднимались в горы, любуясь красотой открывающихся видов. Наконец, их подносили в паланкинах к храму, сливающемуся с окружающей природой. Храмовая роща, изысканность внутреннего убранства – все вызывало восхищение. Поклонение Амиде принимало явственные черты поклонения красоте природы, а чувство эстетического восторга перерастало в восторг религиозный.
Для совершения церемоний служил не только сам храм, но и храмовая роща, как правило, лишь символически отделенная от естественного окружения плетнем или низкой оградой. Весьма образно такая церемония описана у Н. А. Виноградовой в книге «Скульптура Японии. III–XIV вв.»: «На островах его [сада] озера зажигали ажурные бронзовые светильники. В их неярком мерцании еще таинственней казались дали сада. Одежды священнослужителей поражали своим великолепием. Юноши с девушками в роскошных многослойных и многоцветных ярких шелковых нарядах, стоя перед иконами или статуями, мелодично звонили в маленькие колокольчики, повторяя речитативом: «Нами Амида Буцу!» [5].
Впрочем, нечто подобное можно было наблюдать не только в храмовых рощах. В VIII веке искусство светских садов было ознаменовано появлением дворцового стиля синдэн («святилище», «храм»), название которого говорит о связи с древними святилищами. Строения усадьбы синдэн-дзукури, вплотную примыкая друг к другу, образовывали букву П или Н, словно обнимая боковыми галереями сад воды с гравийной площадкой перед главным корпусом и составляя с ним единое целое. Через всю усадьбу проходил ручей, впадавший в озеро и снабжавший его проточной водой. Камни ручья вставали на пути воды, которая, волнуясь и пенясь, издавала мелодичное журчание. В саду сажались цветущие деревья и травы, оттененные зеленью сосен. Там росли дейция городчатая, сливы, вишни, глицинии, керрии, азалии, клены, бамбук, сосна пятиигольчатая. Из трав – померанцы, гвоздики, горечавки, вьюнки, ирисы, аир. Справа и слева от широкой лестницы, ведущей в главный корпус, часто сажалось по цветущему дереву.
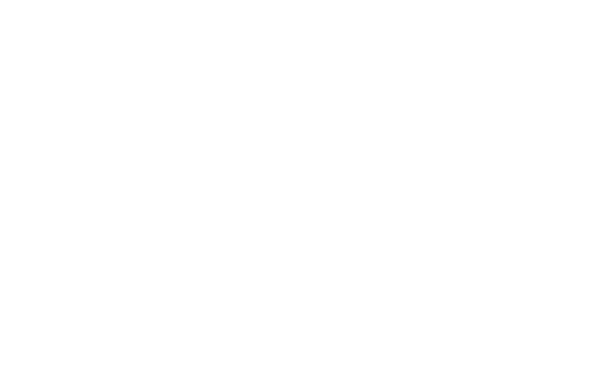
Рис. 7. Усадьба в стиле синдэн-дзукури (фото: ©ameblo.jp)
В усадьбах четко прослеживаются два основных элемента стиля синдэн, пришедшие из прошлого: обширный пустой двор, засыпанный галькой, и помост для ритуальных танцев, устанавливаемый на площадке двора во время праздников. Всё это – и площадка, и помост, и танцы – удивительно напоминает обряд вызывания Аматэрасу из грота. Вызвать ее удалось только после того, как боги собрались на Равнине Высокого Неба у грота, а Небесная Богиня Отважная, Амэ-но-удзумэ-но микото, опрокинув у входа в грот пустой котел, пришла в священную одержимость и в полном неглиже стала отплясывать на нем, грохоча ногами.
Да и в самих садах имелись каменные композиции, напоминающие о лесных святилищах древности – ивасака. Чудесные сады в стиле синдэн прекрасно гармонировали с киноварью окружавших их построек, что в сочетании с яркими одеждами дам и кавалеров представляли собой необыкновенно живописную картину.
Тропой «росистой земли»
Особого внимания заслуживают маленькие сады цубонива, примыкавшие к главному корпусу справа и слева. Они сыграли огромную роль в формировании и чайных садов, и садов при городских домах матия, и в создании облика современного японского сада, особенно в городской среде.
Да и в самих садах имелись каменные композиции, напоминающие о лесных святилищах древности – ивасака. Чудесные сады в стиле синдэн прекрасно гармонировали с киноварью окружавших их построек, что в сочетании с яркими одеждами дам и кавалеров представляли собой необыкновенно живописную картину.
Тропой «росистой земли»
Особого внимания заслуживают маленькие сады цубонива, примыкавшие к главному корпусу справа и слева. Они сыграли огромную роль в формировании и чайных садов, и садов при городских домах матия, и в создании облика современного японского сада, особенно в городской среде.
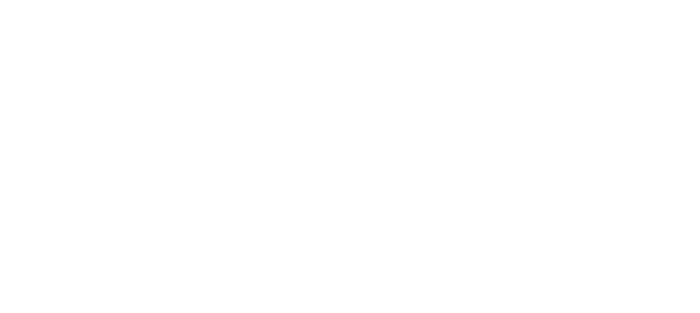
Рис. 8. Усадьба в стиле синдэн-дзукури. Сад цубо (фото: ©sakagaminansei.com)
В цубонива формировали чуть всхолмленный ландшафт и воссоздавали атмосферу полей, сажая цветы и деревья. В обиходном значении цубо – единица измерения площади, равная 3,31 кв. м. Это не значит, что площадь сада цубонива должна быть именно такой. Она может быть и больше, и даже меньше. Это слово взято для того, чтобы подчеркнуть малые размеры сада. Но почему именно цубо? Ведь есть и другие единицы измерения площади, даже более мелкие. Дело в том, что слово цубо многозначно, и при упоминании о нем у человека, знакомого с его значениями, возникают ассоциации, зачастую весьма далекие от садов. В частности, оно означает некое вместилище: кувшин, мешок и вообще, замкнутое пространство. Примечательно, что в просторечье мать называют офукуро, «мамаша», что в буквальном переводе означает «уважаемый мешок». Цубо входит в состав слова цубонэ – помещение придворной дамы. Может быть, в связи с этим сад цубонива считается в Японии женской территорией, в отличие от чайного сада, где хозяин – мужчина. По крайней мере, был. Присутствует в этом слове и терапевтический аспект, поскольку цубо называются точки на теле, используемые для лечебного прижигания полынью (мокса-терапия).
Таков сад цубонива, внутренний садик, окруженный с четырех сторон постройками. Нечто чрезвычайно неофициальное, почти интимное, где не существует проблемы посторонних. Это укромное местечко, доступное только своим, где человек может отдохнуть от окружающей суеты в уединении или среди близких ему людей, проникаясь красотой природы, врачующей душу.
Цубонива, облюбованный аристократами Хэйан, послужил основой для создания чайного сада родзи, который стал неотъемлемой частью чайной церемонии с XVI века. С чего начиналось формирование этого своеобразного сада, хорошо видно по плану загородного дома Сакайясики мастера чайной церемонии Такэно Дзёо (1502–1555). Цубонива здесь разделен на две части – боковую и переднюю. Если передний цубонива служил для созерцания, то благодаря дорожке, ведущей от входа к боковому цубонива, а из него – в галерею перед чайной комнатой тясицу, возникла идея похождения через чайный сад.
Таков сад цубонива, внутренний садик, окруженный с четырех сторон постройками. Нечто чрезвычайно неофициальное, почти интимное, где не существует проблемы посторонних. Это укромное местечко, доступное только своим, где человек может отдохнуть от окружающей суеты в уединении или среди близких ему людей, проникаясь красотой природы, врачующей душу.
Цубонива, облюбованный аристократами Хэйан, послужил основой для создания чайного сада родзи, который стал неотъемлемой частью чайной церемонии с XVI века. С чего начиналось формирование этого своеобразного сада, хорошо видно по плану загородного дома Сакайясики мастера чайной церемонии Такэно Дзёо (1502–1555). Цубонива здесь разделен на две части – боковую и переднюю. Если передний цубонива служил для созерцания, то благодаря дорожке, ведущей от входа к боковому цубонива, а из него – в галерею перед чайной комнатой тясицу, возникла идея похождения через чайный сад.
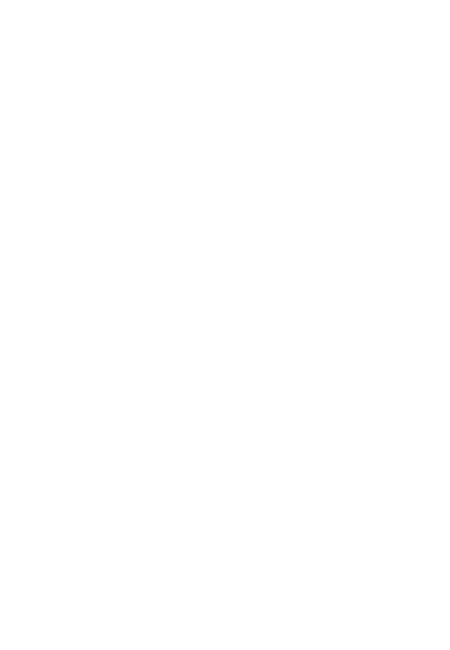
Рис. 9. План Сакайясики (©Амасаки Х. Дзусэцу тянива-но сикуми, 2002, с. 29)
Поистине, надо обладать богатой фантазией, чтобы в переднем цубонива площадью полтора татами (около 2,5 метров) ощутить величие природы.
Невольно вспоминаются стихи Вильяма Блейка:
Впоследствии оба цубонива были объединены в сад родзи, отличающийся от других японских садов своей ярко выраженной функциональностью. Однако следует заметить, что между цубонива и родзи существует принципиальная разница. Если цубонива – это точка, сад для любования, то родзи – это линия, сад для прохождения. Недаром изначально «родзи» понималось как «дорожка», и дорожка родзи неизменно является формообразующим элементом сада родзи – «росистой земли». Структура сада такова, что в процессе движения по этой дорожке происходит переживание окружающего пространства, способствующее духовной концентрации на цели всего действа.
В начале XVII века чайная церемония разделилась на две ветви – «чай даймё», чай крупных военных феодалов, и «чай ваби», разработанный выдающимся мастером Сэн-но Рикю (1522–1591), который стоял у истоков этого стиля. Видными фигурами в создании садов для «чая даймё» были Фурута Орибэ и Кобори Энсю. Чайные павильоны этого стиля, как правило, входили в состав «садов даймё», раскинувшихся на обширных пространствах и радующих взор своим великолепием и разнообразием видов. Среди них были также тематические сады и сады четырех времен года.
Между тем чайная церемония, а вместе с ней и родзи в стиле вабитя, несколько ослабившие свои позиции сразу после смерти Рикю, жили и набирали силу, приобретя к XVII веку неизменную любовь поклонников чайного действа. В родзи этого стиля, где пристальное внимание уделялось сути тя-но ю, великолепие окружающего пейзажа, отвлекающее «гостя», не считалось достоинством.
Путь цветка
Судя по плану дома Такэно Дзёо, в его чайной комнате было отведено место для ниши токонома, где, как правило, вешают каллиграфический или живописный свиток, ставят курительницу, вазу с цветочной композицией – икэбаной. Зародившись в XV веке, прекрасное искусство икэбаны разветвилось на несколько школ, самой первой из которых считается Икэнобо, а самой современной – Согэцу, основанной в 1926 году.
Школа Согэцу возникла из желания создать икэбану, всегда живущую современной жизнью. Когда основатель школы Тэсигахара Софу (1900–1979) вернулся после Второй мировой войны в Токио, город лежал в развалинах. О цветах и вазах нечего было и мечтать. Но трагедия не погасила в Софу стремление к творчеству, а послужила мощным толчком к появлению новых идей. Будучи уже известным мастером, он начал повсюду собирать камни, обломки пластика, куски металла – любой неживой материал и, сочетая его с избежавшими огня растениями, создавать невиданные ранее композиции, вызывавшие изумление, возмущение, но и восхищение зрителей. Поистине, как писала Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи» [6]!
Из «сора», собранного Тэсигахара Софу, выросло искусство, покорившее мир. С 1952 года стали открываться выставки школы в Америке и странах Европы. В 1968 году Тэсигахара Софу посетил СССР, где прошли его персональные выставки. Поддерживая отношения с авангардистами из других областей искусства, Тэсигахара, казалось, полностью изменил подход к искусству икэбаны, в композициях которой теперь могло вовсе не быть цветов. Однако тяжелые времена прошли, цветы появились, а с ними ожил и традиционный подход к составлению композиций из растений, авангардное же направление стало одним из ветвей школы Согэцу.
Схемы, составленные Софу для изучения форм композиций, по-прежнему строились на основе трех главных ветвей: син, символизирующей небо, (Ян), соэ – землю (Инь) и хикаэ – человека, в котором соединились оба начала. Примечательно, что элементы этой триады имеют и графическое изображение: син – круг, соэ – квадрат, хикаэ – треугольник. Символика этих геометрических фигур используется и в живописи, как в свитке Сэнгая Гибона (1750–1837) «Круг, треугольник, квадрат», и в садах, например, в дизайне чаш тёдзубати.
Невольно вспоминаются стихи Вильяма Блейка:
В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир – в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность
И небо – в чашечке цветка.
Впоследствии оба цубонива были объединены в сад родзи, отличающийся от других японских садов своей ярко выраженной функциональностью. Однако следует заметить, что между цубонива и родзи существует принципиальная разница. Если цубонива – это точка, сад для любования, то родзи – это линия, сад для прохождения. Недаром изначально «родзи» понималось как «дорожка», и дорожка родзи неизменно является формообразующим элементом сада родзи – «росистой земли». Структура сада такова, что в процессе движения по этой дорожке происходит переживание окружающего пространства, способствующее духовной концентрации на цели всего действа.
В начале XVII века чайная церемония разделилась на две ветви – «чай даймё», чай крупных военных феодалов, и «чай ваби», разработанный выдающимся мастером Сэн-но Рикю (1522–1591), который стоял у истоков этого стиля. Видными фигурами в создании садов для «чая даймё» были Фурута Орибэ и Кобори Энсю. Чайные павильоны этого стиля, как правило, входили в состав «садов даймё», раскинувшихся на обширных пространствах и радующих взор своим великолепием и разнообразием видов. Среди них были также тематические сады и сады четырех времен года.
Между тем чайная церемония, а вместе с ней и родзи в стиле вабитя, несколько ослабившие свои позиции сразу после смерти Рикю, жили и набирали силу, приобретя к XVII веку неизменную любовь поклонников чайного действа. В родзи этого стиля, где пристальное внимание уделялось сути тя-но ю, великолепие окружающего пейзажа, отвлекающее «гостя», не считалось достоинством.
Путь цветка
Судя по плану дома Такэно Дзёо, в его чайной комнате было отведено место для ниши токонома, где, как правило, вешают каллиграфический или живописный свиток, ставят курительницу, вазу с цветочной композицией – икэбаной. Зародившись в XV веке, прекрасное искусство икэбаны разветвилось на несколько школ, самой первой из которых считается Икэнобо, а самой современной – Согэцу, основанной в 1926 году.
Школа Согэцу возникла из желания создать икэбану, всегда живущую современной жизнью. Когда основатель школы Тэсигахара Софу (1900–1979) вернулся после Второй мировой войны в Токио, город лежал в развалинах. О цветах и вазах нечего было и мечтать. Но трагедия не погасила в Софу стремление к творчеству, а послужила мощным толчком к появлению новых идей. Будучи уже известным мастером, он начал повсюду собирать камни, обломки пластика, куски металла – любой неживой материал и, сочетая его с избежавшими огня растениями, создавать невиданные ранее композиции, вызывавшие изумление, возмущение, но и восхищение зрителей. Поистине, как писала Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи» [6]!
Из «сора», собранного Тэсигахара Софу, выросло искусство, покорившее мир. С 1952 года стали открываться выставки школы в Америке и странах Европы. В 1968 году Тэсигахара Софу посетил СССР, где прошли его персональные выставки. Поддерживая отношения с авангардистами из других областей искусства, Тэсигахара, казалось, полностью изменил подход к искусству икэбаны, в композициях которой теперь могло вовсе не быть цветов. Однако тяжелые времена прошли, цветы появились, а с ними ожил и традиционный подход к составлению композиций из растений, авангардное же направление стало одним из ветвей школы Согэцу.
Схемы, составленные Софу для изучения форм композиций, по-прежнему строились на основе трех главных ветвей: син, символизирующей небо, (Ян), соэ – землю (Инь) и хикаэ – человека, в котором соединились оба начала. Примечательно, что элементы этой триады имеют и графическое изображение: син – круг, соэ – квадрат, хикаэ – треугольник. Символика этих геометрических фигур используется и в живописи, как в свитке Сэнгая Гибона (1750–1837) «Круг, треугольник, квадрат», и в садах, например, в дизайне чаш тёдзубати.
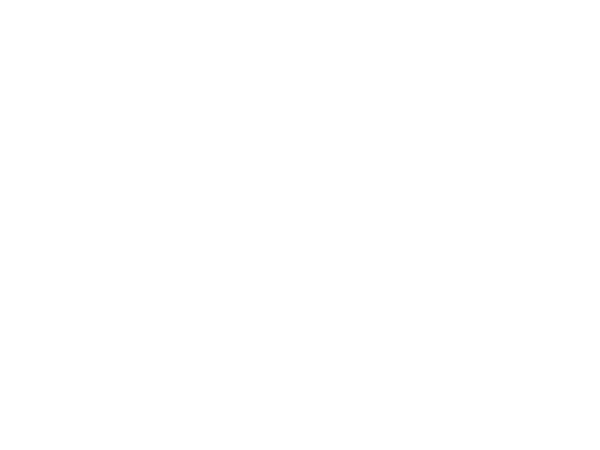
Рис. 10. Круг, треугольник, квадрат. Чаша тёдзубати
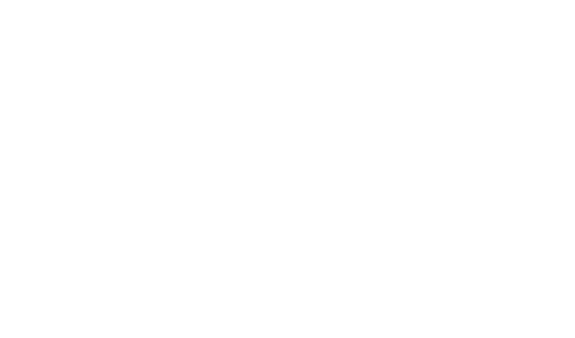
Рис. 11. Круг, треугольник, квадрат. Кавабата Рюси
Если син, соэ, хикаэ проникнуто онтологическим смыслом, то другая троица, син-гё-со, присутствующая во всех областях искусства, связана, скорее, с формой его выражения, специфической для каждой из искусств. Нагляднее всего эти универсальные формы проявляются в каллиграфии, где син характеризует полный, уставной способ написания иероглифов, гё – полускоропись, в которой часть черт сливается или вовсе исчезает, и стиль со, замечательный тем, что почти все черты могут сливаться в одну.
Полнота, сокращение средств выразительности или строгая лаконичность свойственна и живописи, теснейшим образом связанной с каллиграфией. При этом лаконизм отнюдь не означает примитивности, выхолощенности, скорее наоборот. Как сказал Дайсэцу Судзуки, «простота формы не всегда означает тривиальность содержания» [7]. Если полная форма «ставит все точки над и», не оставляя места для недосказанности, столь ценимой в японском искусстве, то форма со воплощает этот принцип в наибольшей степени. Уменьшение количества элементов идет здесь за счет углубления значимости оставшихся. Изобразительность уступает место символичности. Пример Сэнгая Гибона свидетельствует об этом.
В икэбане переход от син к со связан со стилистическими различиями композиций. Этих стилей пять: рикка, сёка, морибана и нагэирэ, создаваемые на основе определенных схем, а также свободный стиль – дзиюка.
Самым древним и канонизированным, со сложной структурой из девяти основных ветвей, является стиль рикка, призванный выразить красоту природы. Его можно соотнести с формой син. Лёгкий и изящный стиль сёка, состоящий из трех основных ветвей – форма гё. Однако сам этот стиль содержит в себе рассматриваемые три формы композиции в зависимости от числа употребляемых в ней видов материала: сансюикэ – из трёх видов (син), нисюикэ – из двух видов (гё) и иссюикэ, самая лаконичная из форм икэбаны, – из одного (со).
Полнота, сокращение средств выразительности или строгая лаконичность свойственна и живописи, теснейшим образом связанной с каллиграфией. При этом лаконизм отнюдь не означает примитивности, выхолощенности, скорее наоборот. Как сказал Дайсэцу Судзуки, «простота формы не всегда означает тривиальность содержания» [7]. Если полная форма «ставит все точки над и», не оставляя места для недосказанности, столь ценимой в японском искусстве, то форма со воплощает этот принцип в наибольшей степени. Уменьшение количества элементов идет здесь за счет углубления значимости оставшихся. Изобразительность уступает место символичности. Пример Сэнгая Гибона свидетельствует об этом.
В икэбане переход от син к со связан со стилистическими различиями композиций. Этих стилей пять: рикка, сёка, морибана и нагэирэ, создаваемые на основе определенных схем, а также свободный стиль – дзиюка.
Самым древним и канонизированным, со сложной структурой из девяти основных ветвей, является стиль рикка, призванный выразить красоту природы. Его можно соотнести с формой син. Лёгкий и изящный стиль сёка, состоящий из трех основных ветвей – форма гё. Однако сам этот стиль содержит в себе рассматриваемые три формы композиции в зависимости от числа употребляемых в ней видов материала: сансюикэ – из трёх видов (син), нисюикэ – из двух видов (гё) и иссюикэ, самая лаконичная из форм икэбаны, – из одного (со).
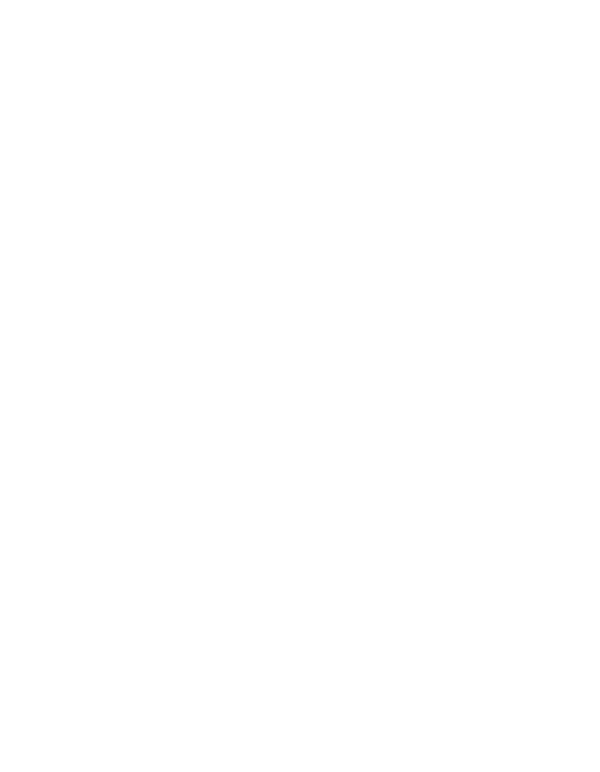
Рис. 12. Икэбана в стиле рикка
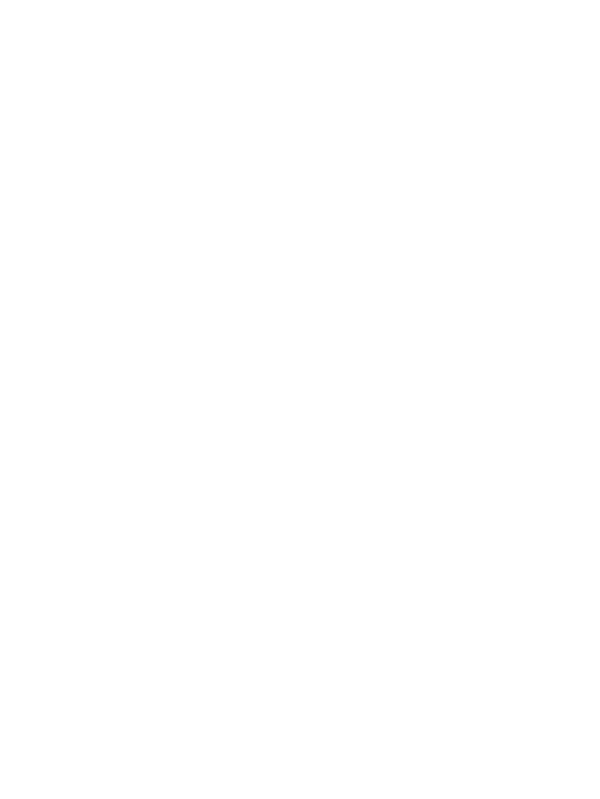
Рис. 13. Икэбана в стиле иссюикэ
Нагэирэ и морибана, как и сёка, имеют три основных ветви, но нагэирэ строится на основе вертикальных форм, а морибана, напротив, создается в широкой плоской вазе. В ней, появившейся в начале XX века, в первой из стилей икэбаны стали использоваться европейские цветы.
Кроме того, в начале XX века возник свободный стиль дзиюка, название которого говорит само за себя. Помимо того, что в нем можно не придерживаться канонов четырех основных стилей и применять для выражения замысла любой материал, в дзиюка принята классификация по степени условности, во многом совпадающая с классификацией син-гё-со, но не совсем. Первый и второй стили этой классификации, натуралистический и символический, в общем, совпадают с син и гё, но вот третий, абстрактный, может и не быть столь минималистичным, как со.
Рукотворные сады
Слова о том, что переход от син к со связан со стилистическими различиями композиций, вполне применимы и к японским садам. В конце XIX – начале XX веков широкое распространение получили сады в стиле сидзэнсюги («натурализм», «естественность») – сидзэнтэйэн, предполагавшие минимальное вмешательство в природу. Если в усадьбе сохранялись участки естественного леса, то такое вмешательство, как правило, сводилось к прокладке дорожек и обустройству территорий, примыкающих к строениям. Причем это обустройство должно было не контрастировать со своим естественным окружением, а плавно переходить в него. Если естественного леса в усадьбе не сохранилось, то рукотворность нового сада должна была ощущаться как можно меньше.
В начале XX века такой подход к созданию сада получил теоретическую поддержку в работах одного из основоположников эстетической науки в Японии Ониси Ёсинори, выдвинувшего принцип сидзэнсюги как основу японского эстетического сознания с древнейших времен. Отличительной чертой стиля натурализма, ставшего ведущим направлением садового искусства Японии XX века, явилось возвращение к безыскусной природе.
В стиле натурализма создавал сады один из выдающихся мастеров Иида Дзюки (1890–1977). Свои сады, являвшиеся разновидностью природных садов, он назвал дзоки-но эн («сады смешанных деревьев»). Дзюки особо подчеркивал, что эти сады являются «природными садами», в отличие от «рукотворных садов», или «садов ландшафтного стиля» – сакутэйсики тэйэн.
«Рукотворные сады» – это сады в прямом смысле этого слова, то есть сады, посаженные человеком для претворения того или иного замысла. К ним относятся, собственно, все сады кроме природных, которые можно назвать лесопарками. Это и сады в стиле натурализма, относящиеся к форме син, и цубонива, и чайные сады, и сады для созерцания, по которым нельзя ходить, а только любоваться ими, раздвинув сёдзи, и прогулочные «сады даймё». Насколько символичны они бывают, можно судить по приведенным выше примерам.
К «рукотворным садам» относятся и абстрактные сады карэсансуй, которые не совсем корректно называют «дзэнскими садами». Дело в том, что существует пять школ дзэн-буддизма, самые влиятельные из которых – риндзай и сото, но сухие сады создавались только в монастырях риндзай, пока в результате секуляризации не стали элементом светских садов.
К тому же следует иметь в виду, что карэсансуй («сухой пейзаж»), или, как еще называют эти сады – сэкитэй («сад камней»), это только в самом общем виде сады с «сухой» водой, имитированной песком или гравием. «Сухие пейзажи», имеющие древнюю историю и получившие толчок к развитию с появлением в Японии дзэнских монастырей, могут быть разными. Термины карэсансуй и сэкитэй используются как синонимы, но различаются акцентами. Карэсансуй – это абстрактный сад, «хозяином» которого является незаполненное пространство, а в сэкитэй «хозяевами» становятся камни. Различаются сухие сады и по наличию (или отсутствию) сюжета. Абстрактные сады идеографичны и несут медитативную функцию, композиция же садов сэкитэй построена на основе определенного сюжета или конкретного образа, переданного языком символов. Прекрасным примером сэкитэй является сад камней Дайсэн-ин монастыря Дайтоку-дзи, апофеозом же карэсансуй – сад Токай-ан в монастыре Мёсин-дзи, который совершенно пуст. Идеальное воплощение формы со: «Форма есть пустота, пустота и есть форма. Нет формы помимо пустоты, нет пустоты помимо формы» [8].
Кроме того, в начале XX века возник свободный стиль дзиюка, название которого говорит само за себя. Помимо того, что в нем можно не придерживаться канонов четырех основных стилей и применять для выражения замысла любой материал, в дзиюка принята классификация по степени условности, во многом совпадающая с классификацией син-гё-со, но не совсем. Первый и второй стили этой классификации, натуралистический и символический, в общем, совпадают с син и гё, но вот третий, абстрактный, может и не быть столь минималистичным, как со.
Рукотворные сады
Слова о том, что переход от син к со связан со стилистическими различиями композиций, вполне применимы и к японским садам. В конце XIX – начале XX веков широкое распространение получили сады в стиле сидзэнсюги («натурализм», «естественность») – сидзэнтэйэн, предполагавшие минимальное вмешательство в природу. Если в усадьбе сохранялись участки естественного леса, то такое вмешательство, как правило, сводилось к прокладке дорожек и обустройству территорий, примыкающих к строениям. Причем это обустройство должно было не контрастировать со своим естественным окружением, а плавно переходить в него. Если естественного леса в усадьбе не сохранилось, то рукотворность нового сада должна была ощущаться как можно меньше.
В начале XX века такой подход к созданию сада получил теоретическую поддержку в работах одного из основоположников эстетической науки в Японии Ониси Ёсинори, выдвинувшего принцип сидзэнсюги как основу японского эстетического сознания с древнейших времен. Отличительной чертой стиля натурализма, ставшего ведущим направлением садового искусства Японии XX века, явилось возвращение к безыскусной природе.
В стиле натурализма создавал сады один из выдающихся мастеров Иида Дзюки (1890–1977). Свои сады, являвшиеся разновидностью природных садов, он назвал дзоки-но эн («сады смешанных деревьев»). Дзюки особо подчеркивал, что эти сады являются «природными садами», в отличие от «рукотворных садов», или «садов ландшафтного стиля» – сакутэйсики тэйэн.
«Рукотворные сады» – это сады в прямом смысле этого слова, то есть сады, посаженные человеком для претворения того или иного замысла. К ним относятся, собственно, все сады кроме природных, которые можно назвать лесопарками. Это и сады в стиле натурализма, относящиеся к форме син, и цубонива, и чайные сады, и сады для созерцания, по которым нельзя ходить, а только любоваться ими, раздвинув сёдзи, и прогулочные «сады даймё». Насколько символичны они бывают, можно судить по приведенным выше примерам.
К «рукотворным садам» относятся и абстрактные сады карэсансуй, которые не совсем корректно называют «дзэнскими садами». Дело в том, что существует пять школ дзэн-буддизма, самые влиятельные из которых – риндзай и сото, но сухие сады создавались только в монастырях риндзай, пока в результате секуляризации не стали элементом светских садов.
К тому же следует иметь в виду, что карэсансуй («сухой пейзаж»), или, как еще называют эти сады – сэкитэй («сад камней»), это только в самом общем виде сады с «сухой» водой, имитированной песком или гравием. «Сухие пейзажи», имеющие древнюю историю и получившие толчок к развитию с появлением в Японии дзэнских монастырей, могут быть разными. Термины карэсансуй и сэкитэй используются как синонимы, но различаются акцентами. Карэсансуй – это абстрактный сад, «хозяином» которого является незаполненное пространство, а в сэкитэй «хозяевами» становятся камни. Различаются сухие сады и по наличию (или отсутствию) сюжета. Абстрактные сады идеографичны и несут медитативную функцию, композиция же садов сэкитэй построена на основе определенного сюжета или конкретного образа, переданного языком символов. Прекрасным примером сэкитэй является сад камней Дайсэн-ин монастыря Дайтоку-дзи, апофеозом же карэсансуй – сад Токай-ан в монастыре Мёсин-дзи, который совершенно пуст. Идеальное воплощение формы со: «Форма есть пустота, пустота и есть форма. Нет формы помимо пустоты, нет пустоты помимо формы» [8].
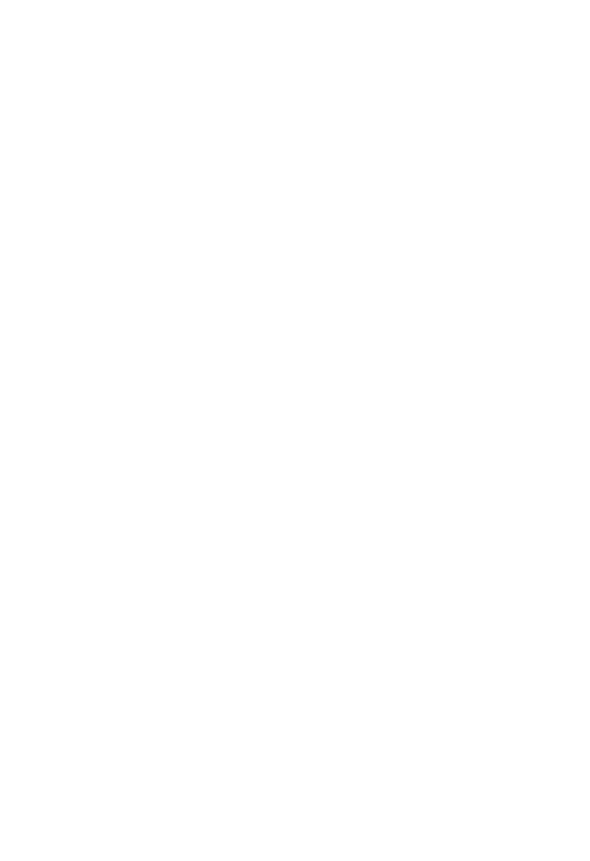
Рис. 14. Сад Токай-ан монастыря Мёсиндзи, г. Киото (фото: ©camtips.jp)
Абсолютная пустота, понимаемая в дальневосточных культурах как абсолютная наполненность, – лишь условное название того, что вообще нельзя назвать: «Я не знаю ее имени. Обозначая иероглифом, назову ее «Дао», произвольно давая ей имя, назову «Великое» [9]. Мир форм и мир пустоты – только два способа восприятия Единого, Абсолюта, который по природе своей неделим. Интересно, как перекликается с этими словами Лао-цзы высказывание великого индийского философа Нагарджуны (150–250): «Рассматривая причины и условия, мы называем этот мир феноменальным. Но этот же самый мир, когда снимаются причины и условия, называется Абсолютом» [10].
«Сухие сады» для восприятия западного человека – сплошная загадка, особенно, если их камни, как в знаменитом саду монастыря Рёандзи, не имеют названий. Его выраженная абстрактность порождает иконографическую неопределенность и дает простор различным теориям, связанным с расположением камней, их числом и фактурой. Особенно поражает пятнадцатый камень, который никогда не виден. По этому поводу исследователи проводят математические вычисления и строят геометрические схемы, что, конечно, интересно. Однако не нужно забывать, что сад создавался не для этого. В нем существует тайна, поскольку его символический смысл сокрыт. Сухая вода, неподвижные волны, близкие дали – пространство невозможного, пространство парадокса. Каждый созерцающий воспринимает его по-своему, создавая собственную «метафорическую реальность». Сад камней Рёандзи – коан, не подлежащий логическому анализу.
Цветы в японском саду
Разумеется, далеко не все сады Японии так суровы и монохромны. Более того, большинство «рукотворных садов» ярки, жизнерадостны, и в них всегда были цветы. Еще в усадьбах в стиле синдэн-дзукури рядом с главным корпусом усадьбы разбивались палисадники сэндзай, в которых высаживались не только травянистые растения, но и деревья. Были и сады сосэндзай («травяной сэндзай»), где росли только травянистые цветы и цветущие кустарники.
В замечательном романе Мурасаки Сикибу «Гэндзи моногатари», написанном на рубеже X–XI веков, присутствует около сотни названий цветущих деревьев, трав и кустарников, высаживавшихся в усадьбах аристократов. Из деревьев, такие как слива японская (умэ), вишня (сакура), груша (наси), багряник японский (кацура); из кустарников – азалия (цуцудзи), гардения (кутинаси), дейция городчатая (унохана); из трав – астра татарская (сион), вербейник (мурасаки), гвоздика пышная (надэсико), горечавка (риндо) и многие другие.
В эпоху Муромати (1336–1573) произошло еще одно, может быть, не столь уж важное событие, мимо которого обычно проходят в неяпонской литературе о японских садах. Это появление самостоятельных цветников кадан (клумба) как дальнейшее развитие палисадника сэндзай. Исторически сложилось так, что цветы сажаются в японских садах нечасто. Однако как следует из древнейшего руководства по устройству садов «Сакутэйки», во времена Хэйан и Камакура цветы были в чести. В эпоху Муромати такие цветники стали обычным явлением, но с наступлением эпохи Эдо (1603–1868) на смену травянистым цветам пришли цветущие кустарники.
Правда, в моду стали входить и сады, где чуть ли не единственной достопримечательностью были крупные периодически обновлявшиеся цветники, в которых зачастую высаживалось большое количество растений одного вида. Единственный сохранившийся до нашего времени сад-цветник начала эпохи Эдо – Мукодзима-Хяккаэн в Токио. Его название можно перевести как «Сад ста цветов, которые цветут на протяжении четырех времен года». Там цветет все – травы, кусты и деревья.
«Сухие сады» для восприятия западного человека – сплошная загадка, особенно, если их камни, как в знаменитом саду монастыря Рёандзи, не имеют названий. Его выраженная абстрактность порождает иконографическую неопределенность и дает простор различным теориям, связанным с расположением камней, их числом и фактурой. Особенно поражает пятнадцатый камень, который никогда не виден. По этому поводу исследователи проводят математические вычисления и строят геометрические схемы, что, конечно, интересно. Однако не нужно забывать, что сад создавался не для этого. В нем существует тайна, поскольку его символический смысл сокрыт. Сухая вода, неподвижные волны, близкие дали – пространство невозможного, пространство парадокса. Каждый созерцающий воспринимает его по-своему, создавая собственную «метафорическую реальность». Сад камней Рёандзи – коан, не подлежащий логическому анализу.
Цветы в японском саду
Разумеется, далеко не все сады Японии так суровы и монохромны. Более того, большинство «рукотворных садов» ярки, жизнерадостны, и в них всегда были цветы. Еще в усадьбах в стиле синдэн-дзукури рядом с главным корпусом усадьбы разбивались палисадники сэндзай, в которых высаживались не только травянистые растения, но и деревья. Были и сады сосэндзай («травяной сэндзай»), где росли только травянистые цветы и цветущие кустарники.
В замечательном романе Мурасаки Сикибу «Гэндзи моногатари», написанном на рубеже X–XI веков, присутствует около сотни названий цветущих деревьев, трав и кустарников, высаживавшихся в усадьбах аристократов. Из деревьев, такие как слива японская (умэ), вишня (сакура), груша (наси), багряник японский (кацура); из кустарников – азалия (цуцудзи), гардения (кутинаси), дейция городчатая (унохана); из трав – астра татарская (сион), вербейник (мурасаки), гвоздика пышная (надэсико), горечавка (риндо) и многие другие.
В эпоху Муромати (1336–1573) произошло еще одно, может быть, не столь уж важное событие, мимо которого обычно проходят в неяпонской литературе о японских садах. Это появление самостоятельных цветников кадан (клумба) как дальнейшее развитие палисадника сэндзай. Исторически сложилось так, что цветы сажаются в японских садах нечасто. Однако как следует из древнейшего руководства по устройству садов «Сакутэйки», во времена Хэйан и Камакура цветы были в чести. В эпоху Муромати такие цветники стали обычным явлением, но с наступлением эпохи Эдо (1603–1868) на смену травянистым цветам пришли цветущие кустарники.
Правда, в моду стали входить и сады, где чуть ли не единственной достопримечательностью были крупные периодически обновлявшиеся цветники, в которых зачастую высаживалось большое количество растений одного вида. Единственный сохранившийся до нашего времени сад-цветник начала эпохи Эдо – Мукодзима-Хяккаэн в Токио. Его название можно перевести как «Сад ста цветов, которые цветут на протяжении четырех времен года». Там цветет все – травы, кусты и деревья.
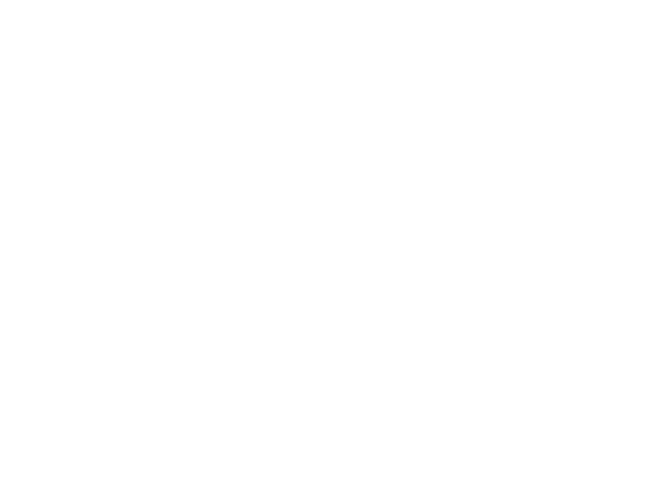
Рис. 15. Сад Мукодзима-Хяккаэн, г. Токио (фото: ©4travel.jp)
И, конечно, огромные прогулочные сады. Их основными элементами являлись большой пруд и система дорожек, одна из которых шла вокруг этого пруда. Своим очарованием прогулочные сады обязаны разнообразию и взаимообусловленностью пейзажей, разворачивающихся подобно горизонтальному свитку эмакимоно перед гуляющим по дорожкам восхищенным гостем. Это могли быть виды, рожденные фантазией создателя сада, знаменитые пейзажи страны, воссозданные в миниатюре, композиции на темы литературных и живописных произведений – все, что не дает притупиться эмоциональному восприятию. Хозяин мог специально разработать маршруты прохождения по дорожкам, чтобы представить сад в том или ином ракурсе. В качестве примера таких садов можно привести знаменитые сады – Коракуэн, Кайракуэн и Кэнрокуэн.
Сады ваёфу
Новым словом в японском садовом искусстве второй половины XIX века стали сады ваёфу, сады в японско-европейском стиле. Первоначально этот стиль соотносился в основном с архитектурой. Именно она сильнее всего испытала на себе влияние Запада, но в искусстве садов все происходило не так быстро. На самом деле влияние на сады сказалось гораздо раньше, когда монах школы риндзай и мастер садов Мусо Сосэки (1275–1351) впервые применил стрижку кустов и обратил внимание на самоценность композиций из камней. Его почин получил продолжение только в XVII веке в творчестве другого известного мастера садов – Кобори Энсю (1579–1647). Более того, используя прием «сопоставления естественного и искусственного», Энсю начал применять в своих работах так называемый «геометрический дизайн», придавая камням, кронам кустов и деревьев, дорожкам, мостикам и другим объектам правильные геометрические формы.
Трудно сказать, было ли это влияние Европы, где именно в это время царствовал регулярный стиль с использованием топиара, но учитель Энсю в «чайном действе» – Фурута Орибэ, оставивший заметный след на «пути чая» (тядо), состоял в родстве с принявшим христианство даймё Такаямой Уконом. Так или иначе, но предложенные Энсю преобразования, как и эксперименты Мусо Сосэки, не были поняты современниками.
В усадьбах ваёфу европейская тематика могла появляться трояким образом:
Прекрасным примером последнего варианта является усадьба генерала Ямагата Аритомо (1838–1922) Мурин-ан. Большой человек в японской политике, маршал, знаток японской поэзии, получивший прозвище «отец японской армии», именно он послужил прототипом Омуры в фильме «Последний самурай».
Сад Мурин-ан способен изменяться по воле созерцающего его человека. Двуликий Янус, принимающий японский или европейский облик в зависимости от восприятия наблюдателя. Благодаря гению создателя сада, Огавы Дзихэя, он наполнен неуловимым «нечто», становящимся «чем-то конкретным» в глазах конкретного человека.
При попытке понять, как все это удалось реализовать Дзихэю, поражает композиционная незамысловатость сада, что видно, в частности, из его плана. Участок в 30 соток треугольной формы, обсаженный по периметру деревьями, с ручьем, берущим начало у трехступенчатого водопада и пересекающим сад по его длине. Постройки, занимающие примерно треть всей площади, сдвинуты к короткой стороне треугольника.
Сады ваёфу
Новым словом в японском садовом искусстве второй половины XIX века стали сады ваёфу, сады в японско-европейском стиле. Первоначально этот стиль соотносился в основном с архитектурой. Именно она сильнее всего испытала на себе влияние Запада, но в искусстве садов все происходило не так быстро. На самом деле влияние на сады сказалось гораздо раньше, когда монах школы риндзай и мастер садов Мусо Сосэки (1275–1351) впервые применил стрижку кустов и обратил внимание на самоценность композиций из камней. Его почин получил продолжение только в XVII веке в творчестве другого известного мастера садов – Кобори Энсю (1579–1647). Более того, используя прием «сопоставления естественного и искусственного», Энсю начал применять в своих работах так называемый «геометрический дизайн», придавая камням, кронам кустов и деревьев, дорожкам, мостикам и другим объектам правильные геометрические формы.
Трудно сказать, было ли это влияние Европы, где именно в это время царствовал регулярный стиль с использованием топиара, но учитель Энсю в «чайном действе» – Фурута Орибэ, оставивший заметный след на «пути чая» (тядо), состоял в родстве с принявшим христианство даймё Такаямой Уконом. Так или иначе, но предложенные Энсю преобразования, как и эксперименты Мусо Сосэки, не были поняты современниками.
В усадьбах ваёфу европейская тематика могла появляться трояким образом:
- Усадьбы, в которых имеются строения как японской, так и европейской архитектуры, но сад разбит в японском стиле.
- Усадьбы, в которых японскому строению соответствует японская стилистика сада, а европейскому — европейская, без явного разделения участка на две зоны.
- Усадьбы, в которых в стиле ваёфу созданы и строения, и сад.
Прекрасным примером последнего варианта является усадьба генерала Ямагата Аритомо (1838–1922) Мурин-ан. Большой человек в японской политике, маршал, знаток японской поэзии, получивший прозвище «отец японской армии», именно он послужил прототипом Омуры в фильме «Последний самурай».
Сад Мурин-ан способен изменяться по воле созерцающего его человека. Двуликий Янус, принимающий японский или европейский облик в зависимости от восприятия наблюдателя. Благодаря гению создателя сада, Огавы Дзихэя, он наполнен неуловимым «нечто», становящимся «чем-то конкретным» в глазах конкретного человека.
При попытке понять, как все это удалось реализовать Дзихэю, поражает композиционная незамысловатость сада, что видно, в частности, из его плана. Участок в 30 соток треугольной формы, обсаженный по периметру деревьями, с ручьем, берущим начало у трехступенчатого водопада и пересекающим сад по его длине. Постройки, занимающие примерно треть всей площади, сдвинуты к короткой стороне треугольника.
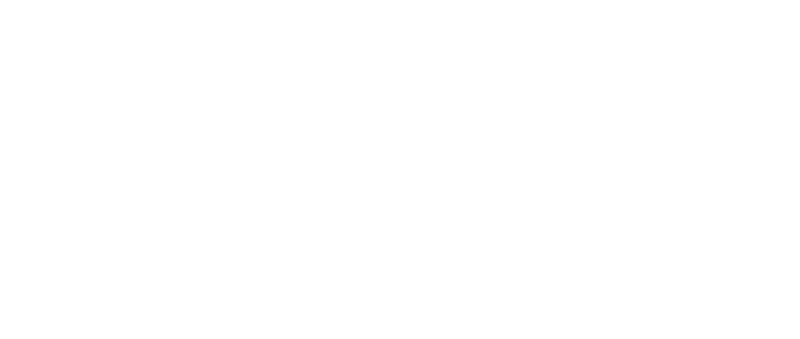
Рис. 16. Сад виллы Мурин-ан, г. Киото. План
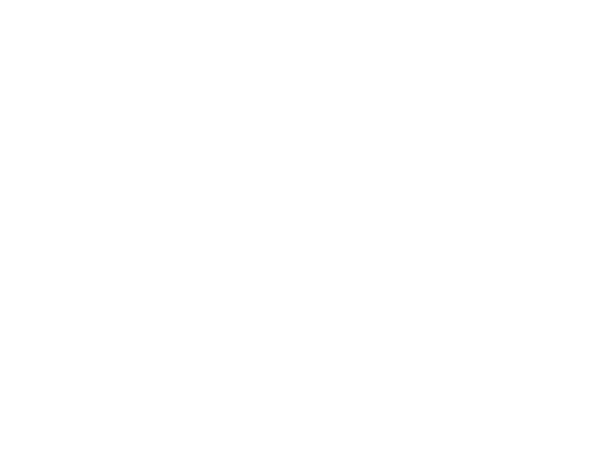
Рис. 17. Сад виллы Мурин-ан, г. Киото. Зеленые просторы
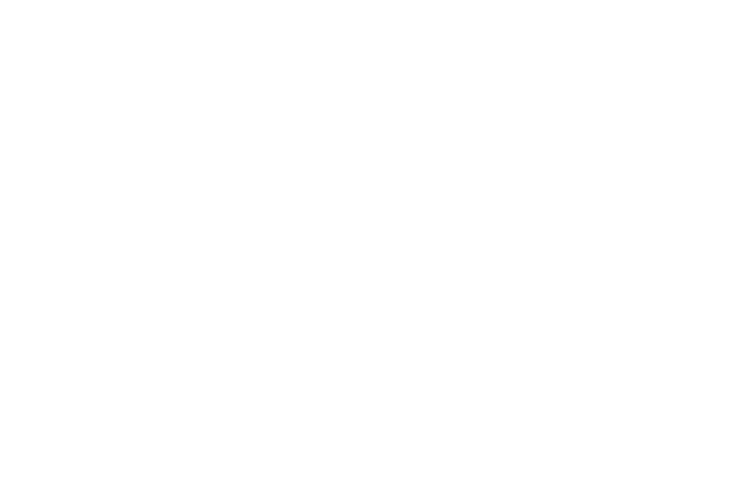
Рис. 18. Сад виллы Мурин-ан, г. Киото. Традиционные элементы дизайна (фото: ©Yasuhiro Imamiya)
На первый взгляд кажется, что сад довольно прост, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что простота эта глубоко продумана. Как раз благодаря этой продуманности и отсутствию явно выраженных акцентов японское в нем совершенно незаметно перетекает в европейское и наоборот. Постройки сдвинуты в одну сторону и расположены как можно ближе друг к другу не только для того, чтобы освободить пространство для сада. Заходя с улицы в усадьбу, человек сразу попадает в тесноту застройки. Преодолев в этой тесноте ряд проходов и поворотов и оказавшись, наконец, в саду, он с особой силой ощущает открывшийся перед ним зеленый простор.
Что же он видит? Для европейца это обычный пейзаж с извилистой речкой, текущей через луг в окружении леса. Деревья имеют самый естественный облик, без следов формирования. Среди них встречаются ели и пихты, непривычные в японском саду. Далекие холмы в голубой дымке – прекрасно использованный заимствованный пейзаж. Классический английский пейзажный сад. Однако стоит отойти на несколько шагов – и начинаешь сомневаться, европейский ли он. Да и предыдущий вид, если приглядеться, не такой уж европейский: невысокие, ненавязчивые стриженые кустики, разбросанные по луговине, камни, как будто лежащие здесь испокон веков, а на самом деле идеально сбалансированные. И вот это уже Япония без сомнений, хотя место одно и то же.
Или участок мелководья с отцветшими кочками ирисов и веткой сосны, склонившейся над ними. Сколько ассоциаций может вызвать он у японца! Прежде всего, конечно, классический образ ирисового болотца с мостом яцухаси. Но ведь и для европейца такой уголок леса выглядит совершенно привычно. Оценивая структуру сада, японец скажет, что это, разумеется, сад японский. В нем присутствуют все основные элементы: вода, камень, свободное пространство и растения. И полное отсутствие симметрии. А европеец ответит, что все это не чуждо и европейским садам.
Но как организована связь сада с постройками? Кроме хозяйственных строений, которые не видны из сада, на участке имеются два дома, расположенные рядом друг с другом. Один – в европейском стиле, другой – в японском. Они весьма символично разделены ручьем, но при этом соединены перекинутым через него мостиком. Примечательно, что чайный павильон, единственная постройка на территории самого сада, расположен на стороне европейского дома, и именно от европейского дома к нему ведет кратчайший путь.
Переход от домов к территории сада происходит плавно и незаметно. Дорожки, ведущие от каждого из домов в сад, вначале соответствуют стилистике самих домов. От европейского дома отходит ровная гравийная дорожка, обсаженная естественно растущими деревьями, а от японского дома с садом цубо внутри – дорожка из пошаговых камней. Около нее есть фонарь и тёдзубати. Однако по мере вхождения в сад эти дорожки как-то теряют свой национальный колорит, растворяясь в атмосфере взаимопревращений.
Видимо, Огава Дзихэй уловил ту «сущность», которая является общей для японских и европейских садов, сумев воплотить ее в реальных пейзажах, вызывающих душевный отклик как у японца, так и у европейца.
Вперед – к природе
В 1912 году закончилась бурная эпоха Мэйдзи (1868–1912), затем промелькнула эпоха «великой справедливости» Тайсё (1912–1926) с ее недолгим расцветом демократических свобод, названная впоследствии «романтической», а в 1989 году подошла к концу эпоха «просвещенного мира» Сёва (1926–1989), полная войн. В конце XIX – начала XX веков все стилистическое разнообразие японских садов свелось в усадьбах, по существу, к одному стилю – стилю натурализма, представляющему собой некое смешение японского природного и английского пейзажного садов. Усыпанные гравием площадки перед домом уступили место газонам, однако цветники так и не прижились. Не прижилась в чистом виде и европейская архитектура.
Однако в эпоху Хэйсэй (1989–2019) в связи с ростом городов, особенно в послевоенный период «экономического чуда», ситуация изменилась. Наряду с садами убежденных приверженцев старых традиций создаются сады, испытавшие в той или иной мере европейское влияние и просто европейские сады, перенесенные на японскую почву. Но появилось и нечто новое.
В связи с активной урбанизацией и сокращением площадей для создания крупных садов все большую роль в ландшафтном искусстве стали играть профессиональные архитекторы. В их работах сад, будучи живым организмом, даже если это сухой сад, трансформируется, адаптируясь к окружающим условиям. При этом и архитекторы, и мастера садов, будучи воспитаны на многовековой традиции архитектуры, всегда жившей одной жизнью с садами, сознательно или подсознательно сохраняют в своих произведениях некую шкалу ценностей, каким бы метаморфозам не подвергалась форма их выражения. Одной из этих ценностей, безусловно, является единение с природой.
Примером такого единения может служить Народный дом Минкайкан в г. Мияконодзё (преф. Миядзаки), возведенный в 1966 году и предназначенный для проведения свадебных церемоний, концертов и фестивалей. Автором проекта стал архитектор Кикутакэ Киёнори (1928–2011), один из основателей группы метаболистов, призывавших, в частности, вернуться к принципу единства и взаимопроникновения рукотворной и природной среды, дома и сада, в течение веков являвшегося основополагающим принципом японской архитектуры. В своих работах метаболисты часто вдохновлялись природными формами животного и растительного мира.
В качестве прототипа облика Народного дома послужила раковина японского гребешка, моллюска, символизирующего в Японии женское начало, гармонию и верность. Хотя есть и другие трактовки формы здания. В ней видят ежа, черепаху, броненосца, но в любом случае это живое существо. Рядом с этим современным зданием из бетона и стали разбит сад в японском стиле, словно намек на связь времен, преемственность поколений. Живая изгородь на основании из крупных камней, отделяющая сад от дороги, стриженые формы деревьев и кустарников, фонарь, каменный монолит и даже ручей с перекинутым через него мостом – все говорит о сохранении традиций.
Другой пример – проект музея Сэндзю Хироси, современного художника, покоренного стихией водопадов, принадлежит известному архитектору Нисидзава Рюэ (род. 1966), работы которого имеются во многих странах. Конфигурация здания, построенного в 2011 году, настолько вписана в окружающий ландшафт, что пол не лежит горизонтально, а следует изгибу находящейся под ним поверхности земли. Благодаря этому, а также обилию зелени не только снаружи, но и в самом помещении, даже внутри музея кажется, что поднимаешься или спускаешься с невысокого холма. Потолок также изогнут мягкой волной, согласующейся с изгибом пола, но не повторяющей его. Светлое, открытое пространство музея призвано объединить произведения искусства, посвященные природе, с реальной природой г. Каруидзава.
Природа не только окружает музей, но и входит в него, становясь неотъемлемой частью экспозиции. В общей сложности внутри и снаружи здания посажено около 60 тысяч растений различных местных видов. Сначала кажется, что это великолепная дизайнерская находка. Но вдруг осознаешь, что перед тобой не что иное, как сад цубо в современной трактовке. Для растений в музее созданы самые комфортные условия, чтобы они чувствовали себя «как дома». От нежелательного вмешательства в их жизнь сад цубо огражден хрустальным стеклом, пропускающим ультрафиолет. Для ухода за растениями в стеклянных стенах сделаны двери, защитой от слишком жарких лучей солнца служат полупрозрачные передвижные занавеси.
Что же он видит? Для европейца это обычный пейзаж с извилистой речкой, текущей через луг в окружении леса. Деревья имеют самый естественный облик, без следов формирования. Среди них встречаются ели и пихты, непривычные в японском саду. Далекие холмы в голубой дымке – прекрасно использованный заимствованный пейзаж. Классический английский пейзажный сад. Однако стоит отойти на несколько шагов – и начинаешь сомневаться, европейский ли он. Да и предыдущий вид, если приглядеться, не такой уж европейский: невысокие, ненавязчивые стриженые кустики, разбросанные по луговине, камни, как будто лежащие здесь испокон веков, а на самом деле идеально сбалансированные. И вот это уже Япония без сомнений, хотя место одно и то же.
Или участок мелководья с отцветшими кочками ирисов и веткой сосны, склонившейся над ними. Сколько ассоциаций может вызвать он у японца! Прежде всего, конечно, классический образ ирисового болотца с мостом яцухаси. Но ведь и для европейца такой уголок леса выглядит совершенно привычно. Оценивая структуру сада, японец скажет, что это, разумеется, сад японский. В нем присутствуют все основные элементы: вода, камень, свободное пространство и растения. И полное отсутствие симметрии. А европеец ответит, что все это не чуждо и европейским садам.
Но как организована связь сада с постройками? Кроме хозяйственных строений, которые не видны из сада, на участке имеются два дома, расположенные рядом друг с другом. Один – в европейском стиле, другой – в японском. Они весьма символично разделены ручьем, но при этом соединены перекинутым через него мостиком. Примечательно, что чайный павильон, единственная постройка на территории самого сада, расположен на стороне европейского дома, и именно от европейского дома к нему ведет кратчайший путь.
Переход от домов к территории сада происходит плавно и незаметно. Дорожки, ведущие от каждого из домов в сад, вначале соответствуют стилистике самих домов. От европейского дома отходит ровная гравийная дорожка, обсаженная естественно растущими деревьями, а от японского дома с садом цубо внутри – дорожка из пошаговых камней. Около нее есть фонарь и тёдзубати. Однако по мере вхождения в сад эти дорожки как-то теряют свой национальный колорит, растворяясь в атмосфере взаимопревращений.
Видимо, Огава Дзихэй уловил ту «сущность», которая является общей для японских и европейских садов, сумев воплотить ее в реальных пейзажах, вызывающих душевный отклик как у японца, так и у европейца.
Вперед – к природе
В 1912 году закончилась бурная эпоха Мэйдзи (1868–1912), затем промелькнула эпоха «великой справедливости» Тайсё (1912–1926) с ее недолгим расцветом демократических свобод, названная впоследствии «романтической», а в 1989 году подошла к концу эпоха «просвещенного мира» Сёва (1926–1989), полная войн. В конце XIX – начала XX веков все стилистическое разнообразие японских садов свелось в усадьбах, по существу, к одному стилю – стилю натурализма, представляющему собой некое смешение японского природного и английского пейзажного садов. Усыпанные гравием площадки перед домом уступили место газонам, однако цветники так и не прижились. Не прижилась в чистом виде и европейская архитектура.
Однако в эпоху Хэйсэй (1989–2019) в связи с ростом городов, особенно в послевоенный период «экономического чуда», ситуация изменилась. Наряду с садами убежденных приверженцев старых традиций создаются сады, испытавшие в той или иной мере европейское влияние и просто европейские сады, перенесенные на японскую почву. Но появилось и нечто новое.
В связи с активной урбанизацией и сокращением площадей для создания крупных садов все большую роль в ландшафтном искусстве стали играть профессиональные архитекторы. В их работах сад, будучи живым организмом, даже если это сухой сад, трансформируется, адаптируясь к окружающим условиям. При этом и архитекторы, и мастера садов, будучи воспитаны на многовековой традиции архитектуры, всегда жившей одной жизнью с садами, сознательно или подсознательно сохраняют в своих произведениях некую шкалу ценностей, каким бы метаморфозам не подвергалась форма их выражения. Одной из этих ценностей, безусловно, является единение с природой.
Примером такого единения может служить Народный дом Минкайкан в г. Мияконодзё (преф. Миядзаки), возведенный в 1966 году и предназначенный для проведения свадебных церемоний, концертов и фестивалей. Автором проекта стал архитектор Кикутакэ Киёнори (1928–2011), один из основателей группы метаболистов, призывавших, в частности, вернуться к принципу единства и взаимопроникновения рукотворной и природной среды, дома и сада, в течение веков являвшегося основополагающим принципом японской архитектуры. В своих работах метаболисты часто вдохновлялись природными формами животного и растительного мира.
В качестве прототипа облика Народного дома послужила раковина японского гребешка, моллюска, символизирующего в Японии женское начало, гармонию и верность. Хотя есть и другие трактовки формы здания. В ней видят ежа, черепаху, броненосца, но в любом случае это живое существо. Рядом с этим современным зданием из бетона и стали разбит сад в японском стиле, словно намек на связь времен, преемственность поколений. Живая изгородь на основании из крупных камней, отделяющая сад от дороги, стриженые формы деревьев и кустарников, фонарь, каменный монолит и даже ручей с перекинутым через него мостом – все говорит о сохранении традиций.
Другой пример – проект музея Сэндзю Хироси, современного художника, покоренного стихией водопадов, принадлежит известному архитектору Нисидзава Рюэ (род. 1966), работы которого имеются во многих странах. Конфигурация здания, построенного в 2011 году, настолько вписана в окружающий ландшафт, что пол не лежит горизонтально, а следует изгибу находящейся под ним поверхности земли. Благодаря этому, а также обилию зелени не только снаружи, но и в самом помещении, даже внутри музея кажется, что поднимаешься или спускаешься с невысокого холма. Потолок также изогнут мягкой волной, согласующейся с изгибом пола, но не повторяющей его. Светлое, открытое пространство музея призвано объединить произведения искусства, посвященные природе, с реальной природой г. Каруидзава.
Природа не только окружает музей, но и входит в него, становясь неотъемлемой частью экспозиции. В общей сложности внутри и снаружи здания посажено около 60 тысяч растений различных местных видов. Сначала кажется, что это великолепная дизайнерская находка. Но вдруг осознаешь, что перед тобой не что иное, как сад цубо в современной трактовке. Для растений в музее созданы самые комфортные условия, чтобы они чувствовали себя «как дома». От нежелательного вмешательства в их жизнь сад цубо огражден хрустальным стеклом, пропускающим ультрафиолет. Для ухода за растениями в стеклянных стенах сделаны двери, защитой от слишком жарких лучей солнца служат полупрозрачные передвижные занавеси.
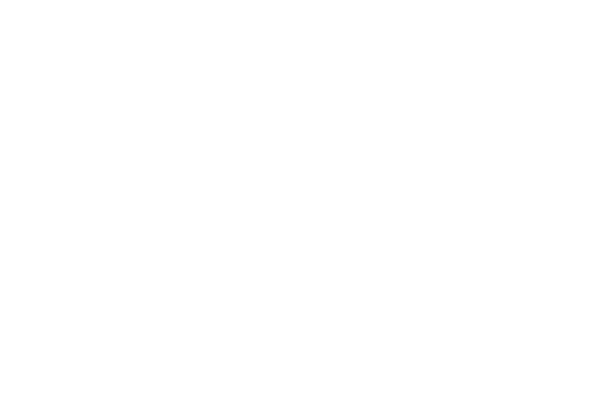
Рис. 19. Художественный музей Сэндзю Хироси, преф. Нагано
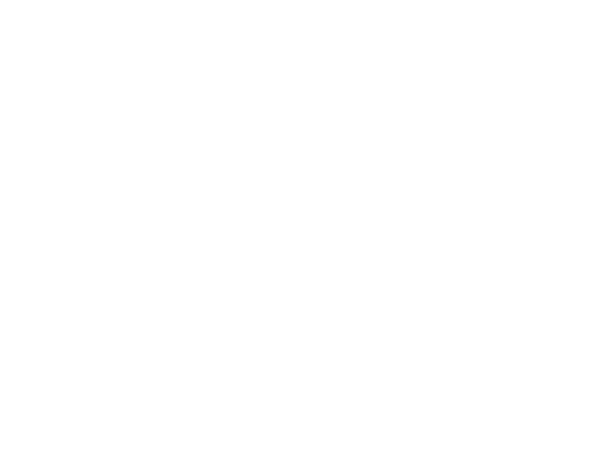
Рис. 20. Художественный музей Сэндзю Хироси, преф. Нагано. Цубонива
Однако ближе всего к природе оказались последователи «прозрачного минимализма». Существует прекрасное высказывание, по поводу авторства которого ведутся споры: «Традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу» [11]. В Японии наиболее известными архитекторами, неизменно следующими этому принципу, стали Такэй Макото (род. 1974) и Набэсима Тиэ (род. 1975) – друзья и соратники, открывшие проектную студию TNA.
В 2008 году в префектуре Нагоя по проекту студии была построена лесная вилла «Дом-коридор». Такэи Макото рассказывал, что идея такого дома пришла ему в голову, когда он заметил полузасыпанную автомобильную шину, торчащую из холма. Дом, окруженный деревьями, в самом деле, словно выдвигается из холма. Такое впечатление, что сначала был построен дом, а потом выросли деревья, не только окружившие его, но и забравшиеся во внутреннюю часть постройки, которую с некоторой натяжкой можно назвать внутренним двором.
Идея Макото при проектировании «Дома-коридора» заключалась в том, чтобы человек ощущал себя в лесу не только при подходе к дому, но и внутри него. Фактически весь дом является площадкой, с которой открывается почти круговой обзор. Впрочем, окна при желании можно и занавесить. В таком необычном строении и входная дверь расположена необычно. Она находится под домом, в полу, и открывается как крышка подпола.
В 2008 году в префектуре Нагоя по проекту студии была построена лесная вилла «Дом-коридор». Такэи Макото рассказывал, что идея такого дома пришла ему в голову, когда он заметил полузасыпанную автомобильную шину, торчащую из холма. Дом, окруженный деревьями, в самом деле, словно выдвигается из холма. Такое впечатление, что сначала был построен дом, а потом выросли деревья, не только окружившие его, но и забравшиеся во внутреннюю часть постройки, которую с некоторой натяжкой можно назвать внутренним двором.
Идея Макото при проектировании «Дома-коридора» заключалась в том, чтобы человек ощущал себя в лесу не только при подходе к дому, но и внутри него. Фактически весь дом является площадкой, с которой открывается почти круговой обзор. Впрочем, окна при желании можно и занавесить. В таком необычном строении и входная дверь расположена необычно. Она находится под домом, в полу, и открывается как крышка подпола.
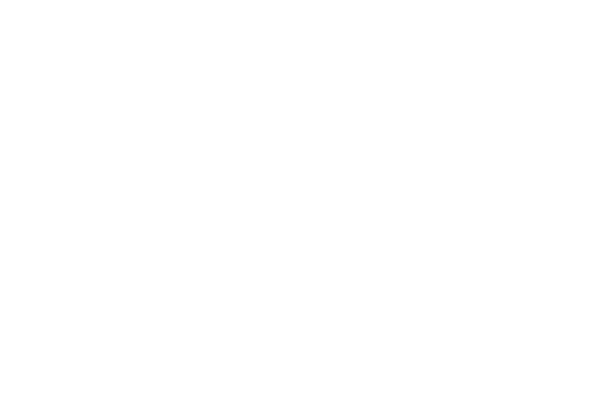
Рис. 21. Дом-коридор, преф. Нагоя. Студия TNA
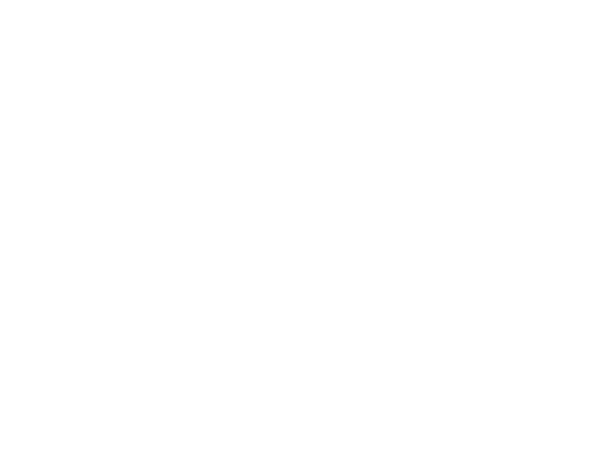
Рис. 22. Дом-коридор, преф. Нагоя. Входная дверь. Студия TNA
При всей своей прогрессивности «прозрачный минимализм» только небольшой пример все более ясного осознания людьми гибельности потребительского отношения к природе. Особенно отчетливо это осознание ощущается в Японии с ее восприятием человека как части природы, что, безусловно, сказывается и на садах, и не только японских.
Еще выдающийся ирландский ландшафтный дизайнер и писатель Уильям Робинсон (1838–1935), творивший в эпоху активного влияния на Европу культуры Японии, будучи убежденным сторонником натуральных посадок с использованием местной флоры, называл свои сады «дикими» – «Wild Garden». Со временем это направление получило название «неодикость» (neowilderness). В этих садах нет газонов, не применяются удобрения и химические препараты. Даже уход за такими садами минимален. Как иллюстрация к «неодикости» может послужить ежегодный фестиваль садов, проводимый во Франции, главной темой которого в 2003 году стали «Сорняки».
Основатель одной из школ японского буддизма Сингон монах Кукай (774–835) говорил: «Сокровенный смысл сутр и шастр возможно обрисовать посредством искусства; сущность эзотерического учения вся укладывается в него. Ни наставники, ни послушники не смогут обойтись без искусства. Искусство – это то, что являет нам состояние совершенства» [12]. То же можно сказать о японских садах. В такой стране, как Япония, впрочем, как и в любой другой, такого состояния совершенства можно достичь только в сотрудничестве с природой, и один из путей этого сотрудничества – искусство садов.
Еще выдающийся ирландский ландшафтный дизайнер и писатель Уильям Робинсон (1838–1935), творивший в эпоху активного влияния на Европу культуры Японии, будучи убежденным сторонником натуральных посадок с использованием местной флоры, называл свои сады «дикими» – «Wild Garden». Со временем это направление получило название «неодикость» (neowilderness). В этих садах нет газонов, не применяются удобрения и химические препараты. Даже уход за такими садами минимален. Как иллюстрация к «неодикости» может послужить ежегодный фестиваль садов, проводимый во Франции, главной темой которого в 2003 году стали «Сорняки».
Основатель одной из школ японского буддизма Сингон монах Кукай (774–835) говорил: «Сокровенный смысл сутр и шастр возможно обрисовать посредством искусства; сущность эзотерического учения вся укладывается в него. Ни наставники, ни послушники не смогут обойтись без искусства. Искусство – это то, что являет нам состояние совершенства» [12]. То же можно сказать о японских садах. В такой стране, как Япония, впрочем, как и в любой другой, такого состояния совершенства можно достичь только в сотрудничестве с природой, и один из путей этого сотрудничества – искусство садов.
- Куго Синдзи. Опыт создания японского сада в России : интервью с японским ландшафтным архитектором Куго Синдзи / С. Куго; зап. и пер. с яп. С.А. Мостовой, А.С. Мостовая // Yugen Landscape Journal : электронный журнал. 2022. №1. С. 18–23. URL: https://yugenlandscape.ru/2022 (дата обращения: 04.09.2024).
- Нихон сёки. Анналы Японии. Т. 1, СПб: Гиперион, 1997.
- Григорьева, Т. П. Японская художественная традиция. М.: Наука, 1979.
- Мостовой, С.А., Мостовая, А.С. Дзэн и сад: творчество Масуно Сюммё за пределами Японии // Yugen Landscape Journal : электронный журнал. 2022. №1. С. 4–17. URL: https://yugenlandscape.ru/2022 (дата обращения: 04.09.2024).
- Виноградова, Н. А. Скульптура Японии. III – XIV вв. М.: Изобразительное искусство, 1981.
- Анна Ахматова. Сочинения. Т. 1. Москва: Художественная литература, 1987.
- Судзуки, Д. Введение в дзэн-буддизм. Бишкек: Одиссей, 1993.
- Лепехов, С. Ю. Идеи шуньявады в коротких сутрах праджняпарамиты // Психологические аспекты буддизма. Новосибирск: Наука, 1991.
- Дао дэ цзин // Древнекитайская философия, Т. 1. М.: Мысль, 1972.
- Дандарон, Б. Д. Теория шуньи у мадхьямиков // Ступени, № 1. Ленинград: Пинди, 1991.
- Таинственный афоризм // LiveJournal. URL: https://pavel-petukhov.livejournal.com/351559.html(дата обращения: 04.09.2024).
- Штейнер, Е. С. Иккю Сюдзюн. М.: Наука, 1987.
Все материалы предоставлены автором. Статья опубликована по итогам международной конференции «В соавторстве с Природой» в рамках «WID-2024 — Международных дней интерьерного дизайна во Владивостоке», 2024, г. Владивосток.
Для цитирования:
Зайцев, А. Б. Япония: «язык другой, но образ неизменен» // Yugen Landscape Journal: электронный журнал. 2025. № 3. URL: https://yugenlandscape.ru/2025/zaitsev-yaponiya-yazik-drugoy-no-obraz-neizmenen. Дата публикации: 14 мая 2025.
For citation:
Zaitsev, A. B. Japan: “The language is different, but the image is the same”. Yugen Landscape Journal. 2025, No. 3. URL: https://yugenlandscape.ru/2025/zaitsev-yaponiya-yazik-drugoy-no-obraz-neizmenen.
Зайцев, А. Б. Япония: «язык другой, но образ неизменен» // Yugen Landscape Journal: электронный журнал. 2025. № 3. URL: https://yugenlandscape.ru/2025/zaitsev-yaponiya-yazik-drugoy-no-obraz-neizmenen. Дата публикации: 14 мая 2025.
For citation:
Zaitsev, A. B. Japan: “The language is different, but the image is the same”. Yugen Landscape Journal. 2025, No. 3. URL: https://yugenlandscape.ru/2025/zaitsev-yaponiya-yazik-drugoy-no-obraz-neizmenen.
О журнале
Электронное сетевое периодическое научно-популярное издание «Yugen Landscape Journal», №3, 2025
Учредитель и издатель
C.А. Мостовой
Главный редактор
C.А. Мостовой
Редакционный совет
Н.В. Ершова, канд. экон. наук
М.Е. Игнатьева, PhD (Австралия)
Д. Иманиси, PhD (Япония)
А.С. Мостовая, канд. ист. наук
С.А. Мостовой, канд. ист. наук
М.Е. Игнатьева, PhD (Австралия)
Д. Иманиси, PhD (Япония)
А.С. Мостовая, канд. ист. наук
С.А. Мостовой, канд. ист. наук
Зам. гл. редактора
А.С. Мостовая
Дизайн и верстка
С.А. Мостовой
Дата публикации
14 мая 2025 г.
На обложке
Райский сад («Сад цветов, камней и воды») в холле Штаб-квартиры школы икэбана Согэцу (Sogetsu Kaikan), Токио, арх. Исаму Ногучи (Фото: © С.А. Мостовой)
Обратиться в редакцию
yugenland@mail.ru
(984) 146-40-52
(984) 146-40-52
Официальный сайт
yugenlandscape.ru
Регистрация
ISSN 2782-5388
Сетевое издание зарегистрировано в Роскомнадзоре. Рег. № СМИ Эл № ФС77-80766 от 09 апреля 2021 г.
Сетевое издание зарегистрировано в Роскомнадзоре. Рег. № СМИ Эл № ФС77-80766 от 09 апреля 2021 г.
Авторские права
Перепечатка, воспроизведение и иное использование опубликованных материалов допускается только с разрешения редакции и при соблюдении действующих норм защиты авторских прав. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несёт ответственность за точность и достоверность сведений, приводимых авторами.
© Yugen Landscape Journal (СМИ), 2025
Все права защищены
© Yugen Landscape Journal (СМИ), 2025
Все права защищены